Лев толстой - казаки. Лев николаевич толстой о кавказе и гребенских казаках Повесть казаки анализ
Все затихло в Москве. Редко, редко где слышится визг колес по зимней улице. В окнах огней уже нет, и фонари потухли. От церквей разносятся звуки колоколов и, колыхаясь над спящим городом, поминают об утре. На улицах пусто. Редко где промесит узкими полозьями песок с снегом ночной извозчик и, перебравшись на другой угол, заснет, дожидаясь седока. Пройдет старушка в церковь, где уж, отражаясь на золотых окладах, красно и редко горят несимметрично расставленные восковые свечи. Рабочий народ уж поднимается после долгой зимней ночи и идет на работы.
А у господ еще вечер.
В одном из окон Шевалье из-под затворенной ставни противузаконно светится огонь. У подъезда стоят карета, сани и извозчики, стеснившись задками. Почтовая тройка стоит тут же. Дворник, закутавшись и съежившись, точно прячется за угол дома.
«И чего переливают из пустого в порожнее? – думает лакей, с осунувшимся лицом, сидя в передней. – И все на мое дежурство!» Из соседней светлой комнатки слышатся голоса трех ужинающих молодых людей. Они сидят в комнате около стола, на котором стоят остатки ужина и вина. Один, маленький, чистенький, худой и дурной, сидит и смотрит на отъезжающего добрыми, усталыми глазами. Другой, высокий, лежит подле уставленного пустыми бутылками стола и играет ключиком часов. Третий, в новеньком полушубке, ходит по комнате и, изредка останавливаясь, щелкает миндаль в довольно толстых и сильных, но с отчищенными ногтями пальцах, и все чему-то улыбается; глаза и лицо его горят. Он говорит с жаром и с жестами; по видно, что он не находит слов, и все слова, которые ему приходят, кажутся недостаточными, чтобы выразить все, что подступило ему к сердцу. Он беспрестанно улыбается.
– Теперь можно все сказать! – говорит отъезжающий. – Я не то что оправдываюсь, но мне бы хотелось, чтобы ты, по крайней мере, понял меня, как я себя понимаю, а не так, как пошлость смотрит на это дело. Ты говоришь, что я виноват перед ней, – обращается он к тому, который добрыми глазами смотрит на него.
– Да, виноват, – отвечает маленький и дурной, и кажется, что еще больше доброты и усталости выражается в его взгляде.
– Я знаю, отчего ты это говоришь, – продолжает отъезжающий. – Быть любимым, по-твоему, такое же счастье, как любить, и довольно на всю жизнь, если раз достиг его.
– Да, очень довольно, душа моя! Больше чем нужно, – подтверждает маленький и дурной, открывая и закрывая глаза.
– Но отчего ж не любить и самому! – говорит отъезжающий, задумывается и как будто с сожалением смотрит на приятеля. – Отчего не любить? Не любится. Нет, любимым быть – несчастье, несчастье, когда чувствуешь, что виноват, потому что не даешь того же и не можешь дать. Ах, Боже мой! – Он махнул рукой. – Ведь если бы это все делалось разумно, а то навыворот, как-то не по-нашему, а по-своему все это делается. Ведь я как будто украл это чувство. И ты так думаешь; не отказывайся, ты должен это думать. А поверишь ли, из всех глупостей и гадостей, которых я много успел наделать в жизни, это одна, в которой я не раскаиваюсь и не могу раскаиваться. Ни сначала, ни после я не лгал ни перед собой, ни перед нею. Мне казалось, что наконец-то вот я полюбил, а потом увидал, что это была невольная ложь, что так любить нельзя, и не мог идти далее; а она пошла. Разве я виноват в том, что не мог? Что же мне было делать?
– Ну, да теперь кончено! – сказал приятель, закуривая сигару, чтобы разогнать сон. – Одно только: ты еще не любил и не знаешь, что такое любить.
Тот, который был в полушубке, хотел опять сказать что-то и схватил себя за голову. Но не высказывалось то, что он хотел сказать.
– Не любил! Да, правда, не любил. Да есть же во мне желание любить, сильнее которого нельзя иметь желанья! Да опять, и есть ли такая любовь? Все остается что-то недоконченное. Ну, да что говорить! Напутал, напутал я себе в жизни. Но теперь все кончено, ты прав. И я чувствую, что начинается новая жизнь.
– В которой ты опять напутаешь, – сказал лежавший на диване и игравший ключиком часов; но отъезжающий не слыхал его.
– Мне и грустно, и рад я, что еду, – продолжал он. – Отчего грустно? Я не знаю.
И отъезжающий стал говорить об одном себе, не замечая того, что другим не было это так интересно, как ему. Человек никогда не бывает таким эгоистом, как в минуту душевного восторга. Ему кажется, что нет на свете в эту минуту ничего прекраснее и интереснее его самого.
– Дмитрий Андреич, ямщик ждать не хочет! – сказал вошедший молодой дворовый человек в шубе и обвязанный шарфом. – С двенадцатого часа лошади, а теперь четыре.
Дмитрий Андреич посмотрел на своего Ванюшу. В его обвязанном шарфе, в его валяных сапогах, в его заспанном лице ему послышался голос другой жизни, призывавшей его, – жизни трудов, лишений, деятельности.
– И в самом деле, прощай! – сказал он, ища на себе незастегнутого крючка.
Несмотря на советы дать еще на водку ямщику, он надел шапку и стал посередине комнаты. Они расцеловались раз, два раза, остановились и потом поцеловались третий раз. Тот, который был в полушубке, подошел к столу, выпил стоявший на столе бокал, взял за руку маленького и дурного и покраснел.
– Нет, все-таки скажу… Надо и можно быть откровенным с тобой, потому что я тебя люблю… Ты ведь любишь ее? Я всегда это думал… да?
– Да, – отвечал приятель, еще кротче улыбаясь.
– И может быть…
– Пожалуйте, свечи тушить приказано, – сказал заспанный лакей, слушавший последний разговор и соображавший, почему это господа всегда говорят все одно и то же. – Счет за кем записать прикажете? За вами-с? – прибавил он, обращаясь к высокому, вперед зная, к кому обратиться.
– За мной, – сказал высокий. – Сколько?
– Двадцать шесть рублей.
Высокий задумался на мгновенье, но ничего не сказал и положил счет в карман.
А у двух разговаривающих шло свое.
– Прощай, ты отличный малый! – сказал господин маленький и дурной с кроткими глазами.
Слезы навернулись на глаза обоим. Они вышли на крыльцо.
– Ах, да! – сказал отъезжающий, краснея и обращаясь к высокому. – Счет Шевалье ты устроишь, и тогда напиши мне.
– Хорошо, хорошо, – сказал высокий, надевая перчатки. – Как я тебе завидую! – прибавил он совершенно неожиданно, когда они вышли на крыльцо.
Отъезжающий сел в сани, закутался в шубу и сказал: «Ну что ж! поедем», – и даже подвинулся в санях, чтобы дать место тому, который сказал, что ему завидует; голос его дрожал.
Провожавший сказал: «Прощай, Митя, дай тебе Бог…» Он ничего не желал, кроме только того, чтобы тот уехал поскорее, и потому не мог договорить, чего он желал.
Они помолчали. Еще раз сказал кто-то: «Прощай». Кто-то сказал: «Пошел!» И ямщик тронул.
– Елизар, подавай! – крикнул один из провожавших. Извозчики и кучер зашевелились, зачмокали и задергали вожжами. Замерзшая карета завизжала по снегу.
– Славный малый этот Оленин, – сказал один из провожавших. – Но что за охота ехать на Кавказ и юнкером? Я бы полтинника не взял. Ты будешь завтра обедать в клубе?
И провожавшие разъехались.
Отъезжавшему казалось тепло, жарко от шубы. Он сел на дно саней, распахнулся, и ямская взъерошенная тройка потащилась из темной улицы в улицу мимо каких-то не виданных им домов. Оленину казалось, что только отъезжающие ездят по этим улицам. Кругом было темно, безмолвно, уныло, а в душе было так полно воспоминаний, любви, сожаления и приятных давивших слез…
«Люблю! Очень люблю! Славные! Хорошо!» – твердил он, и ему хотелось плакать. Но отчего ему хотелось плакать? Кто были славные? Кого он очень любил? Он не знал хорошенько. Иногда он вглядывался в какой-нибудь дом и удивлялся, зачем он так странно выстроен; иногда удивлялся, зачем ямщик и Ванюша, которые так чужды ему, находятся так близко от него и вместе с ним трясутся и покачиваются от порыва пристяжных, натягивающих мерзлые постромки, и снова говорил: «Славные, люблю», – и раз даже сказал: «Как хватит! Отлично!» И сам удивился, к чему он это сказал, и спросил себя: «Уж не пьян ли я?» Правда, он выпил на свою долю бутылки две вина, но не одно вино производило это действие на Оленина. Ему вспоминались все задушевные, как ему казалось, слова дружбы, стыдливо, как будто нечаянно, высказанные ему перед отъездом. Вспоминались пожатия рук, взгляды, молчания, звук голоса, сказавшего: прощай, Митя! – когда он уже сидел в санях. Вспоминалась своя собственная решительная откровенность. И все это для него имело трогательное значение. Перед отъездом не только друзья, родные, не только равнодушные, но несимпатичные, недоброжелательные люди, все как будто вдруг сговорились сильнее полюбить его, простить, как пред исповедью или смертью. «Может быть, мне не вернуться с Кавказа», – думал он. И ему казалось, что он любит своих друзей и еще любит кого-то. И ему было жалко себя. Но не любовь к друзьям так размягчила и подняла его душу, что он не удерживал бессмысленных слов, которые говорились сами собой, и не любовь к женщине (он никогда еще не любил) привела его в это состояние. Любовь к самому себе, горячая, полная надежд, молодая любовь ко всему, что только было хорошего в его душе (а ему казалось теперь, что только одно хорошее было в нем), заставляла его плакать и бормотать несвязные слова.
Лев Николаевич Толстой
Все затихло в Москве. Редко, редко где слышится визг колес по зимней улице. В окнах огней уже нет, и фонари потухли. От церквей разносятся звуки колоколов и, колыхаясь над спящим городом, поминают об утре. На улицах пусто. Редко где промесит узкими полозьями песок с снегом ночной извозчик и, перебравшись на другой угол, заснет, дожидаясь седока. Пройдет старушка в церковь, где уж, отражаясь на золотых окладах, красно и редко горят несимметрично расставленные восковые свечи. Рабочий народ уж поднимается после долгой зимней ночи и идет на работы.
А у господ еще вечер.
В одном из окон Шевалье из-под затворенной ставни противузаконно светится огонь. У подъезда стоят карета, сани и извозчики, стеснившись задками. Почтовая тройка стоит тут же. Дворник, закутавшись и съежившись, точно прячется за угол дома.
«И чего переливают из пустого в порожнее? - думает лакей, с осунувшимся лицом, сидя в передней. - И все на мое дежурство!» Из соседней светлой комнатки слышатся голоса трех ужинающих молодых людей. Они сидят в комнате около стола, на котором стоят остатки ужина и вина. Один, маленький, чистенький, худой и дурной, сидит и смотрит на отъезжающего добрыми, усталыми глазами. Другой, высокий, лежит подле уставленного пустыми бутылками стола и играет ключиком часов. Третий, в новеньком полушубке, ходит по комнате и, изредка останавливаясь, щелкает миндаль в довольно толстых и сильных, но с отчищенными ногтями пальцах, и все чему-то улыбается; глаза и лицо его горят. Он говорит с жаром и с жестами; по видно, что он не находит слов, и все слова, которые ему приходят, кажутся недостаточными, чтобы выразить все, что подступило ему к сердцу. Он беспрестанно улыбается.
Теперь можно все сказать! - говорит отъезжающий. - Я не то что оправдываюсь, но мне бы хотелось, чтобы ты, по крайней мере, понял меня, как я себя понимаю, а не так, как пошлость смотрит на это дело. Ты говоришь, что я виноват перед ней, - обращается он к тому, который добрыми глазами смотрит на него.
Да, виноват, - отвечает маленький и дурной, и кажется, что еще больше доброты и усталости выражается в его взгляде.
Я знаю, отчего ты это говоришь, - продолжает отъезжающий. - Быть любимым, по-твоему, такое же счастье, как любить, и довольно на всю жизнь, если раз достиг его.
Да, очень довольно, душа моя! Больше чем нужно, - подтверждает маленький и дурной, открывая и закрывая глаза.
Но отчего ж не любить и самому! - говорит отъезжающий, задумывается и как будто с сожалением смотрит на приятеля. - Отчего не любить? Не любится. Нет, любимым быть - несчастье, несчастье, когда чувствуешь, что виноват, потому что не даешь того же и не можешь дать. Ах, Боже мой! - Он махнул рукой. - Ведь если бы это все делалось разумно, а то навыворот, как-то не по-нашему, а по-своему все это делается. Ведь я как будто украл это чувство. И ты так думаешь; не отказывайся, ты должен это думать. А поверишь ли, из всех глупостей и гадостей, которых я много успел наделать в жизни, это одна, в которой я не раскаиваюсь и не могу раскаиваться. Ни сначала, ни после я не лгал ни перед собой, ни перед нею. Мне казалось, что наконец-то вот я полюбил, а потом увидал, что это была невольная ложь, что так любить нельзя, и не мог идти далее; а она пошла. Разве я виноват в том, что не мог? Что же мне было делать?
Ну, да теперь кончено! - сказал приятель, закуривая сигару, чтобы разогнать сон. - Одно только: ты еще не любил и не знаешь, что такое любить.
Тот, который был в полушубке, хотел опять сказать что-то и схватил себя за голову. Но не высказывалось то, что он хотел сказать.
Не любил! Да, правда, не любил. Да есть же во мне желание любить, сильнее которого нельзя иметь желанья! Да опять, и есть ли такая любовь? Все остается что-то недоконченное. Ну, да что говорить! Напутал, напутал я себе в жизни. Но теперь все кончено, ты прав. И я чувствую, что начинается новая жизнь.
В которой ты опять напутаешь, - сказал лежавший на диване и игравший ключиком часов; но отъезжающий не слыхал его.
Мне и грустно, и рад я, что еду, - продолжал он. - Отчего грустно? Я не знаю.
И отъезжающий стал говорить об одном себе, не замечая того, что другим не было это так интересно, как ему. Человек никогда не бывает таким эгоистом, как в минуту душевного восторга. Ему кажется, что нет на свете в эту минуту ничего прекраснее и интереснее его самого.
Дмитрий Андреич, ямщик ждать не хочет! - сказал вошедший молодой дворовый человек в шубе и обвязанный шарфом. - С двенадцатого часа лошади, а теперь четыре.
Дмитрий Андреич посмотрел на своего Ванюшу. В его обвязанном шарфе, в его валяных сапогах, в его заспанном лице ему послышался голос другой жизни, призывавшей его, - жизни трудов, лишений, деятельности.
И в самом деле, прощай! - сказал он, ища на себе незастегнутого крючка.
Несмотря на советы дать еще на водку ямщику, он надел шапку и стал посередине комнаты. Они расцеловались раз, два раза, остановились и потом поцеловались третий раз. Тот, который был в полушубке, подошел к столу, выпил стоявший на столе бокал, взял за руку маленького и дурного и покраснел.
Нет, все-таки скажу… Надо и можно быть откровенным с тобой, потому что я тебя люблю… Ты ведь любишь ее? Я всегда это думал… да?
Да, - отвечал приятель, еще кротче улыбаясь.
И может быть…
Пожалуйте, свечи тушить приказано, - сказал заспанный лакей, слушавший последний разговор и соображавший, почему это господа всегда говорят все одно и то же. - Счет за кем записать прикажете? За вами-с? - прибавил он, обращаясь к высокому, вперед зная, к кому обратиться.
За мной, - сказал высокий. - Сколько?
Двадцать шесть рублей.
Высокий задумался на мгновенье, но ничего не сказал и положил счет в карман.
А у двух разговаривающих шло свое.
Прощай, ты отличный малый! - сказал господин маленький и дурной с кроткими глазами.
Слезы навернулись на глаза обоим. Они вышли на крыльцо.
Ах, да! - сказал отъезжающий, краснея и обращаясь к высокому. - Счет Шевалье ты устроишь, и тогда напиши мне.
Хорошо, хорошо, - сказал высокий, надевая перчатки. - Как я тебе завидую! - прибавил он совершенно неожиданно, когда они вышли на крыльцо.
Отъезжающий сел в сани, закутался в шубу и сказал: «Ну что ж! поедем», - и даже подвинулся в санях, чтобы дать место тому, который сказал, что ему завидует; голос его дрожал.
Провожавший сказал: «Прощай, Митя, дай тебе Бог…» Он ничего не желал, кроме только того, чтобы тот уехал поскорее, и потому не мог договорить, чего он желал.
От публикаторов:
Кавказская повесть Льва Николаевича Толстого «Казаки» невелика по объёму – около десяти печатных листов, но создавалась она мучительно долго, в период с 1852 по 1862 годы. Правда, за пределами окончательного текста сохранилось ещё большое число листов с фрагментами, набросками и целыми дополнительными главами, существенно обогащающими сюжет и весьма ценными для характеристики главных персонажей – дяди Ерошки, сноровистого старого охотника и удалого казака; Лукашки, возмужалого бравого казака, и Марьянки, взрослеющей дочери Хорунжего, на подворье которого остановился приезжий постоялец Дмитрий Андреевич Оленин. Повесть насыщена живописными сценами кавказской жизни, колоритными картинами: сбор винограда и фруктов в садах, хлопоты по хозяйству. Всё это занятия казачек, а доля казаков – холить коня, своего боевого товарища, и бдительно служить на кордоне и в секрете, где опасность подстерегает на каждом шагу. Всё это происходит в станице Новомлинской, что расположилась на Терской Линии, оберегающей станичников от немирных горских аулов. С той и другой стороны Терека в почёте зоркие и ловкие джигиты, но бытовые отличия и даже нравы во многом у тех и других одинаковы, ведь староверческое казачество поселилось здесь несколько столетий перед тем и своё первородство возводит ко временам Иоанна Грозного, не поновляя с той поры ни языка, ни веры. Служилые люди и солдаты находятся невдалеке, их дело – предотвращать крупные набеги и поддерживать станичников. Бывают на Линии и стычки, и схватки, и охота друг на друга, - с противной стороны абреки, смельчаки и мстители. Так будет до пленения Шамиля, до прочного замирения. Лукашка Гаврилов бесстрашный молодой казак, друг Оленина, выведен в повести с явной симпатией автора, как с нескрываемым восхищением выписан и образ бывалого казака – дяди Ерошки. Особое место отведено девице Марьяне – подросшей казачке, наделённой сильным характером и степенным нравом, рассудительной и сноровистой.
К этим-то простым и правдивым людям и попал в общение юнкер Дмитрий Оленин, изнеженный и развращённый в столичных залах, богатый молодой человек. По дороге на Кавказ он размечтался стать лучше и проще, отлучась от условностей и лжи, в которых пребывал среди таких же, как и он, богатых дружков. «Как вы мне гадки и жалки. Вы не знаете, что такое счастье и что такое жизнь! Надо раз испытать жизнь во всей безыскусственной красоте. Надо видеть и понимать, что я каждый день вижу перед собой: вечные неприступные снега гор и вечную женщину в той первобытной красоте, в которой должна была выйти первая женщина из рук своего Творца, и тогда ясно станет, кто себя губит, кто живёт в правде или во лжи – вы или я». Старые унижения, слабости, ошибки прошлого здесь, среди гор, потоков, черкешенок и опасностей, не могут повториться. Так оно и вышло, впрочем, остаток самолюбия, избыточной исключительности настойчиво о себе давал знать, навязывая ему отвлечённые мудрствования и несбыточные цели. На боевую Линию юнкер Оленин прибыл вместе с холопом Ванюшей, слугой из крепостных, в ряде случаев тот оказывается прозорливее хозяина. В этом-то обществе и разворачиваются кавказский быт балованного барина, увлечённого боевой романтикой и душевным самоанализом. И мечты об опрощении, чтоб стать заправским казаком, не оправдались. Оленин покидает Кавказ.
Продуманная рецензия Евгении Тур на повесть Л.Н. Толстого «Казаки» появилась в июньском номере «Отечественных Записок» в том же 1863 году. В это время Елизавета Васильевна, урождённая Сухово-Кобылина (1815 – 1892), в замужестве графиня Салиас, жила в Версале, под Парижем, куда её вынудила выехать из Москвы продолжающаяся слежка властей, вызванная радикальными настроениями уже влиятельной писательницы. Салиас в своей рецензии на «Казаков» Л.Н. Толстого пишет: «Повесть не читаешь, не воображаешь, что в ней описано, а просто видишь; это - целая картина, нарисованная рукою мастера, колорит которого поразительно ярок и вместе верен природе; в нём с ослепительною яркостью соединена правда красок». И далее много места в своём разборе этой повести она отводит критике образа кутилы Оленина, выведенного из среды, хорошо известной Сухово-Кобылиной. Литературный разбор получился содержательным и глубоким. Рецензия гр. Салиас со временем затерялась в необъятной Толстовиане и редко кем вспоминалась. Мы решили представить её в обновлённом и доступном виде пред любознательными читателями, как оригинальный взгляд современницы, любящей отечественную словесность и имеющей право на своё неординарное суждение.
Подготовили А.Н. Стрижев и М.А. Бирюкова.
ЕВГЕНИЯ ТУР
КАЗАКИ. Кавказская повесть Графа Л.Н. Толстого.
Письмо к редакторам.
Милостивые государи!
Живя за границей, всякий русский имеет мало возможности следить за отечественной литературой: в заграничных библиотеках и читальнях наших журналов почти нет; они получаются в домах русских, поселившихся за границей, попадаются в руки путешественников редко, случайно, в разбивку, так что частенько приходится читать в июне книжки, появившиеся в декабре. Нечто подобное случилось и со мною. Случайно приехала я в деревню, около Парижа, погостить у соотечественников, которые поспешили с гостеприимством и любезностью угостить меня между прочим и русскими книгами. Провожая меня вечером в приготовленную для меня комнату, мне дали в руки январский нумер «Русского Вестника» и сказали: «Вот «Казаки», гр. Толстого. Читайте, но не зачитывайтесь, а то чего доброго всю ночь не сомкнёте глаз. Предупреждаем, что мудрено оторваться от повести, не дочитав её до конца. Какая поэзия! Какая художественность! Какая мастерская кисть в описаниях горной природы. Словом - великолепие!»
Хозяева мои - люди умные и образованные; я не имела причины не верить им, да притом и самое имя автора говорило за достоинство нового произведения. Я легла в постель и жадно принялась за чтение. Я читала почти до утра, не отрывая глаз от книги, читала с возрастающим интересом, с удивлением к художественному таланту автора. Правду говорили - думалось мне, когда я на другой день не только дочла, но перечла ещё раз «Казаков»: - в этой повести бездна поэзии, художественности, образности. Повесть не читаешь, не воображаешь, что в ней описано, а просто видишь; это - целая картина, нарисованная рукою мастера, колорит которого поразительно ярок и вместе верен природе; в нём с ослепительною яркостью соединена правда красок. А в этом-то гармоническом соединении и заключается величайшая трудность, которую дано преодолеть и победить только истинному художнику. Задача эта разрешается только кистью мастера! Гр. Толстой исполнил её с необычайной лёгкостью, энергиею и смелостью. Нигде не видать кропотливой работы, нет изысканности выражений; всё просто, незамысловато - но сколько поэзии и оригинальности в этой простоте! Это - сама жизнь с её неуловимой прелестью; что может быть поэтичнее описания выкупа тела убитого черкеса, собирания винограда, и картин природы, разбросанных по всему рассказу, чарующих читателя на каждой странице?
Кажется, что повесть гр. Толстого должна безусловно закупить всякого, а между тем, несмотря на её поэтические и художественные достоинства, на душе делается и грустно и смутно, и неловко после её прочтения. Это смутное чувство превращается в горькое, когда повесть перечитывается со вниманием. Вот об этом-то, до искусства не касающемся вопросе я желаю поговорить; вот этот-то вопрос и принудил меня писать к вам, спустя так долго после появления повести гр. Толстого; я чувствую настоятельную необходимость высказать ряд возникших во мне чувств и мыслей, после двукратного внимательного чтения этой повести. Много писали и говорили за и против теории искусства для искусства; много говорили о том, что оно само для себя цель. Я никак не имею желания пускаться опять в этот крайне-бесплодный спор, который напоминает споры схоластиков в средние века. Я знаю одно: повесть, написанная на заданную тему, повесть с тенденцией, или повесть вовсе без тенденции и без заданной темы, одинаково в своих результатах оставляют в читателе итог или того, что хотел доказать автора, или того, что он и в уме не имел доказывать, но что само по себе ярко, рельефно, отчётливо вышло из его рассказа. В том и другом случае этот итог знакомит читателя с воззрениями автора, сознательными и осмысленными, или только с его влечениями, стремлениями, инстинктами, которые тянут его в известную сторону или сферу. После чтения всякого произведения можно вывести следующее заключение: автор хотел доказать то и то, или из его произведения выходит то и то. Что выходит или что хотел доказать своею повестью гр. Толстой? Прочитав его великолепную, по колориту, повесть, к какому заключению приходит читатель? Над чем он задумался? Что поражает его? Что ласкает или немилосердно оскорбляет его чувства? Я не хочу произвольно отвечать на эти вопросы и потому попытаюсь, поговорив о характере одного из героев повести, навести самого читателя на те мысли, которые неотвязно меня преследуют с тех самых пор, как вторично прочитав повесть, я закрыла книгу. В характере, в жизни Оленина, в жизни его до начала завязки и в жизни его после неё, надо искать разрешения вопроса.
Оленин, по словам автора, нигде не кончил своего образования; он не служил, а только числился в каком-то присутственном месте, проводил жизнь в праздности и, едва достигнув двадцати-четырёхлетнего возраста, успел уже промотать половину своего состояния. Общественное положение Оленина определяется автором знаменательной для нас фразой: «Он был то, что называют молодым человеком в московском обществе сороковых годов». Этот тип всем нам, людям зрелого возраста, хорошо знаком; это - лицо известное, слава Богу - мало-помалу сглаживающееся и исчезающее, утопающее, так сказать, в безразличной толпе пожилых людей, не призванных ни играть роли, ни действовать в настоящее время. Автор доканчивает образ Оленина, прибавляя: «У него не было ни семьи, ни отечества, ни веры, ни нужды. Он ни во что не верил и ничего не признавал; но, не признавая ничего, он не был ни скучающим, ни мрачным, ни резонирующим юношей. Он решил, что любви нет, но всякий раз присутствие молодой и красивой женщины заставляло его замирать. Он давно знал, что почести и звание - вздор, но чувствовал невольное удовольствие, когда на бале подходил к нему князь Сергий и говорил ласковые речи... Как скоро, отдавшись одному стремлению, он начинал чуять приближение труда и борьбы, мелочной борьбы с жизнью, он инстинктивно торопился оторваться от чувства или дела и восстановить свою свободу. Так он начинал светскую жизнь, службу, хозяйство, музыку, которой одно время думал посвятить себя, и даже любовь к женщинам, которой не верил. Он раздумывал над тем, куда положить всю эту силу молодости, только раз в жизни бывающую в человеке: на искусство ли, науку ли, на любовь ли к женщине, или на практическую деятельность - не силу ума, сердца, образования, а тот неповторяющийся порыв, ту на один раз данную человеку власть сделать из себя всё, что он хочет и как ему кажется, и из всего мира всё, что ему хочется».
Что ни фраза, то противоречие, но вместе с тем, как автор ни сбивает абриса (по меткому и верному выражению живописцев), фигура Оленина выходит отчётливо. Фальшивые штрихи не в силах затемнить первоначальный, резкий очерк. Человек двадцати четырёх лет, который нигде не кончил своего образования, ничем серьёзным не занят, который успел промотать полсостояния, не дожив до двадцати пяти лет, который, чувствуя приближение труда или борьбы, спешит, по словам автора, отстоять свою свободу, а по-нашему проще, спешит уйти от борьбы и труда - у которого нет ни веры, ни отечества, очень памятен всем нам русским. Оленин, не имея ни веры, ни отечества, оттого именно не скучал и не был мрачен, что не чувствовал, не мог даже по своему крайнему неразвитию чувствовать, что за лишение, что за бедствие, что за скорбь заключаются в сознании несчастного, что у него нет ни веры, ни отечества. Что касается до резонёрства, то, по нашему мнению, Оленин именно резонёр - но об этом после. Если переложить на простой язык очерк Оленина, сделанный автором, то выйдет, мы уже сказали это, всем нам знакомая фигура. Оленин - индиферент, недоучка, лентяй, коптитель неба, топтатель мостовой, маменькин сынок, барчонок, пустой тщеславный щёголь, отчасти пьяница, отчасти повеса (не от избытка сил, а от праздности и распущенности), мот, общество которого состояло из таких же лиц, как он сам. Это общество проводило вечера в гостиных, ночи за бутылкой шампанского, у Шевалье или у Амалий, Луиз и в других грязных местах, где разыгрывались пошлые похождения и авантюры. Что касается до прикрас, которыми разукрасил автор своего героя, то мы не можем взять их на веру; да если бы и решились принять их к сведению, то прикрасы эти окажутся вскоре самого мишурного свойства; для этого нужно не более минуты размышления. Желание посвятить себя музыке, любви к женщине (как же это посвятить себя любви женщине? что-то непонятно), науке (?) и чему-то ещё - немыслимо в таком лице, как Оленин. Мы не сомневаемся, что он при случае, рисуясь, говорил всё это, но мы не обязаны слова его принимать к сведению. Мы также не можем принять за серьёзное уверения, что он раздумывает, куда положить всю эту силу молодости, только раз в жизни бывающую в человеке. Да и уверение это пахнет фразою без всякого содержания. Что такое сила молодости, раз в жизни бывающая? Когда? В двадцать лет, или в двадцать пять, или в восемнадцать? И сколько длится эта сила молодости? Год, два, три, или десять лет, от восемнадцати о двадцати восьми? Эта фраза просто не понятна, но она сделается ещё непонятнее, если мы приклеим к ней следующую за тем фразу: «Не силу ума, сердца, образования, но тот неповторяющийся порыв, ту на один раз данную человеку власть сделать из себя всё, что он хочет...» Тут мы не понимаем ни слова, не можем отгадать мысли автора. Что же это за сила, которая не есть ни сила ума, ни сила образования, ни сила сердца? Какая же это сила? Физическая, стало быть. Но когда же дано было физической силе сделать из человека или из всего мира то, что ей хочется? Слава Богу, физической силе есть границы, и сфера её тесна. Физической силе дано гнёсти людей, это правда, и гнёсти их гнётом тяжким; но силы духа, силы сердца, силы образования всегда в конечном результате одерживают победу и помогают людям освобождаться из-под физического гнёта. Силы духа, сердца и образования таковы, что они творят чудеса, в которых отказано силе физической, силе грубой. В этом и заключается величие души человека, его могущество, его святая прерогатива над всеми создания-ми. - Неповторяющийся порыв... но что такое порыв? Порыв - не причина, a следствие, не исходная точка, а от неё бегущая сила. Порыв происходит от толчка, а кто даёт толчок, если не сила ума, не сила образования, не сила сердца. Воля, скажете вы! Но и воля управляется чем-нибудь - умом, сердцем, образованием (понимая под образованием нравственное развитие), прихотью, наконец! Дальше автор объясняет, что до сих пор (до начала повести) Оленин любил одного себя. Мы в этом не сомневаемся. Такие господа, как Оленин, не доросли до того, чтобы суметь любить других, и способны любить лишь самих себя, ибо они пусты, мелочны и ничтожны; чтобы любить других и другое, надо быть одарённым или глубокою натурою или бесконечною добротою, то есть широким и глубоким сердцем. Автор старается объяснить, почему Оленин любил одного себя и прибавляет: «И не мог не любить (себя), потому что ждал от себя всего хорошего». На каких основаниях? «Потому, - говорит автор, - что не успел разочароваться в самом себе». Очень верим! Как ему было разочароваться? Чтобы разочароваться, надо носить идеал в душе своей, надо стремиться к чему-нибудь! К чему мог стремиться неуч, щёголь гостиных, кутила ресторанов? Он умел только слегка волочиться за барышнями, и убегал тотчас, как скоро любовь, не с его, а с их стороны, грозила перейти в нечто серьёзное. Оленин так мелок, что он боялся даже в других серьёзного чувства. Зато он был мастер заставить богатого приятеля заплатить счёт в ресторане, умел с честью участвовать в попойках с цыганками, устроенных каким-то Сашкой Б*, полковником и флигель-адъютантом (Сашка! драгоценное имя! сколько свойств, какие добродетели заставляет оно предполагать в том, который заслужил и усвоил его!). Знакомые Оленина считали за честь сближаться с этим Сашкой Б*, и хотя Оленин уверяет, что он со своей стороны не желал сближаться с сим героем французских трактиров, но мы имеем право опять не верить ему; ибо он спешит прибавить, что однако Андрей, его управляющий, был бы озадачен, когда бы узнал, что его барин на ты с Сашкой Б*. Если он на ты, стало быть, сближался; мало того, если рассуждает, что его управляющей был бы озадачен этим, то ясно, что и сам он несколько озадачен, и самому ему льстит близкое знакомство с Сашкой Б*. Все эти размышления Оленин кончает очень характеристично. Он вспоминает, что на последней попойке никто не выпил больше его, и что он выучил цыган новой песне, и все слушали... Мы приводим всё это не для того, чтобы выяснить характер Оленина: он, повторяем, угадывается с первых строк; но для того, чтобы доказать, что не мы преднамеренно навязываем Оленину различные свойства, а что таким выставил его сам автор. Надо прибавить, однако, что, выставляя его таким, автор пытается оправдывать своего героя, всегда обращается с ним серьёзно, и порою желает выставить его в хорошем, розовом и поэтически-обольстительном свете. Мы, со своей стороны, совершенно отрицаем присутствие чего-нибудь серьёзного в людях, подобных Оленину, и, разумеется, в нём самом, и постараемся доказать это, продолжая разбор наш.
Автор не говорит нам, по каким соображениям герой его из гостиных, ресторанов, от цыган, княжон, Сашек и попоек, словом, от деятельной и столь почтенной жизни кутил, решился ехать на Кавказ юнкером. Мы догадываемся, что это произошло частью от праздности, бросающей человека туда и сюда без всякой цели, для искания чего-либо новенького, частью от тщеславия схватить крестик либо чин, частью из желания покутить на иной лад и вместе с тем убежать от долгов, которых накопилось уж слишком много. Притом же мысль, что об нём будут говорить, что он займёт собою в течение недели или двух и эту княжну, и этих Сашек, полковников и флигель-адъютантов, и этих Амалий, и этих цыганок, могло толкнуть его юнкером на Кавказ. Его будут провожать, его будут жалеть, над ним будут ахать. Всё это лестно, а он будет рисоваться, ломаться, играть роль! Просто, не жизнь, а масленица! Оленин прощается, не расплачивается (черта характеристическая) и едет на Кавказ, уверяя себя (или лучше, как уверяет нас за него автор), что он прежде не хотел жить хорошенько, но что теперь начнётся для него новая жизнь, в которой не будет ошибок, раскаяния, а будет одно счастье. Кроме этих возвышенных мыслей, есть у Оленина другие, более ему свойственные и сродные, которые ему приходятся более по плечу. Он думает, что если бы он женился на этой богатой барышне, которой он нравился, то у него не было бы долгов; но пусть читатель не смущается. Из этого не следует, чтоб Оленин и все, ему подобные, не были способы жениться из-за денег. Конечно, они не сделают этого без настоятельной необходимости, ибо глупо жертвовать своей свободой и стеснять свою жизнь браком без увлечения, хотя бы чувственного, когда есть ещё и состояние, и молодость, и будущность, и когда долги не слишком беспокоят, и их можно ещё очень спокойно не платить, а уехать, сказав: подождите! Дело другое, когда уже всё состояние промотано, молодость прожита - тогда не жениться на деньгах было бы глупо. Тогда он и женится - а пока нет ещё, подождёт. Продолжая раздумывать, Оленин кончает тем, что заподозревает своего друга в корысти и решает, что друг любит богатую девушку за её деньги. Несмотря на это, он трогательно прощается с ним и даже говорит какую-то сентиментальную фразу, где слова: «Я говорю откровенно, я люблю тебя», звучат очень фальшиво. Не будь у нас других черт для физиономии Оленина, довольно было бы и этих. Испорченность - необходимое условие беспорядочной жизни посреди мелких, пустых и грязных людишек - привилась к его небогатой натуре. Он уж не просто добрый малый, а дрянной человек. Как назвать иначе человека, который в двадцать четыре года таков, каков Оленин?
Дорогой он продолжает мечтать об опасностях, о новой жизни, о черкешенке, рабыне с покорными глазами. «Она дика, груба, но понятлива, даровита и быстро усваивает себе знания. Она выучится по-французски, и Notre Dame de Paris ей понравится». Чего стоят эти строки? Как ярко обрисовался тут тот, особенно противный тип великорусса, о котором сказал кто-то: grattez le russe, vous trou-verez le tartare. He встречаемся ли мы тут с онемечившимся монголом; ему приятно мечтать о рабынях, покорных глазах, о резне; жаль, что не прибавлено к резне и рабыне - неотъемлемой принадлежности их - нагайки! Гарцевать на коне, с нагайкой в руках, драться, бить, ухарствовать и, воротясь домой, встречать рабыню с покорными глазами и длинною косой! Мечтать о резне con amore, о резне ради резни, без причины, без повода! Какой идеал жизни! Это хотя и не ново, но так ярко, что как не сказать спасибо! Но это не всё. После резни, рабыни и нагайки (мы непременно стоим за нагайку, неотъемлемую принадлежность всех героев на лад Оленина), мысли его летят далее: после славных подвигов, он возвращается в отечество, но уже не простым смертным, а равным Сашке Б*. И он флигель-адъютант, и он полковник! Посмотрим, как этот истинно достойный молодой человек осуществит свой высокий идеал, верх счастья и блаженства своего!
Уже от Ставрополя «всё пошло удовлетворительно, дико и единственно. Оленину всё становилось веселее и веселее. На одной станции ему даже рассказали недавно случившееся убийство. Стали встречаться вооружённые люди». Ну, как же было не радоваться! Герой гр. Толстого страдал воинственным запалом и мог, наконец, удовлетворить этой благородной потребности образованного человека, не кончившего, впрочем, курса ни в каком учебном заведении. Увидим, какие подвиги (в этом, конечно, смысле) он совершит! А пока, в нём просыпается, по словам автора, лю-бовь к природе и является способность страстно восхищаться ею. «Все московские воспоминания, стыд и раскаяние исчезли и не возвращались более. Теперь началось, как будто сказал ему торжественный голос». Что началось? Убийства, резня, или что другое? Он предаётся какому-то странному наяву сну. «Ему везде чудятся горы. Он так поражён их видом, что взглянет на себя, на Ванюшу (своего слугу), и опять горы, Вот едут два казака верхом, и ружья в чехлах равномерно поматываются у них за спинами, и лошади их перемешиваются гнедыми и серыми ногами; а горы... За Тереком виден дым в ауле, а горы... Солнце всходит и блещет на виднеющемся из-за камыша Тереке; а горы... Из станицы едет арба; женщины ходят красивые, молодые; а горы... Абреки рыскают в степи, и я еду, их не боюсь, у меня ружьё и сила, и молодость, а горы»... Что сказать на это? Впечатление, произведённое горами и мешающееся со всем, передано поэтически-художественно; но это прочувствовал и написал сам автор. Оленин, попивавший в Москве с Сашкой и радовавшийся, что князь Сергий удостоит его милостивого слова, что цыганки поют его песню, и их все Сашки слушают, что приятель заплатит его долг в ресторане, кажется нам неспособным так всецельно, так поэтически проникнуться красотою природы, прочувствовать её чарующее обаяние и найти такое глубокое и роскошное наслаждение в её созерцании. Чтоб понять, любить, созерцать и наслаждаться природою, надо обладать не грязною, мелкою и пустою душонкою, не холодным, увядшим преждевременно сердцем, не праздным умом; природа нема для таких бедных созданий; они слепы к расточаемым ею богатствам и бесчувственны к роскошным наслаждениям, которыми дарит она избранных. Часто эти избранные - люди простые, нехитрые, но зато они добры, чисты, неиспорченны, одарены или широким сердцем, или любовною душою, или светлым умом. С такими близка мать наша природа; они её понимают и вкушают на её роскошном лоне безмятежное, бесконечное, великое наслаждение. Жаль, очень жаль, что гр. Толстой рассыпает перлы своей поэзии перед Олениным!
Поселясь в станице, Оленин остаётся верен себе, если не на словах (он часто морочит читателя и, пожалуй, пытается морочить и себя, как мы увидим дальше), то на деле, в поступках и образе жизни, а это-то и есть пробный камень человека. На Кавказе он остаётся тем же праздным и пустым малым. Он ходит на охоту и бродит до вечера по лесу. «Само собою сделалось, что он просыпался вместе со светом. Напившись чаю и налюбовавшись со своего крылечка на горы (?), на утро и на Марьянку, он надевал оборванный зипун из воловьей шкуры, размоченную обувь, подпоясывал кинжал, брал ружьё, мешок с закуской и табаком, звал за собою собаку и отправлялся часу в шестом утра в лес за станицу. Часу в 7-м вечера он возвращался усталым, голодным, с 5, 6-ю фазанами за поясом, иногда с зверем, с нетронутым мешочком, в котором лежали закуска и папиросы. Если бы мысли в голове лежали так же, как папиросы в мешке, то можно было бы видеть, что за все эти 14 часов ни одна мысль не пошевелилась в нём. Он приходил домой морально свежий, сильный и совершенно счастливый. Он не мог бы сказать, о чём он думал всё это время? Не то мысли, не воспоминания, бродили отрывки всего этого. Опомнится, спросит: о чём он думает? И застаёт себя или казаком, работающим в садах с казачкою-женою, или абреком в горах (которого вчера ещё резал), или кабаном, убегающим от себя же самого». Вот это называется дойти до последнего результата! Мало того, желать быть пьяным казаком, диким абреком, вором, в обоих случаях, по свидетельству самого же автора, описывающего и тех и других ворами и пьяницами, Оленин идёт последовательно и желает обратиться в зверя, в кабана. Впрочем, он мог бы, по нашему мнению, утешиться в невозможности превращения в четыреногого кабана; он, хотя и двуногий, но мало чем по своей жизни и наклонностям разнится от животного. В подтверждение этого мы продолжаем выписку о жизни Оленина в станице: «Вечером, непременно сидит у него дядя Ерошка. Ванюша приносит осьмуху чихиря, и они тихо беседуют, напиваются, и оба довольные расходятся спать. На завтра опять охота, опять здоровая усталость, опять за беседой также напиваются и опять счастливы. Иногда в праздник или в день отдыха, он (Оленин) целый день проводит дома, «и тогда целый день смотрит на толстую, здоровую, сильную Марьянку, одетую в ситцевую рубашку».
Кто же этот Ерошка? Это – старик-охотник, с которым «вместе проникает в комнату сильный, но не неприятный, смешанный запах чихирю, водки, пороху и запекшейся крови... Его все знали по полку за его старинное молодечество.
Не одно убийство и чеченцев и русских было у него на душе. Он и в горы ходил, и у русских воровал, и в остроге два раза сидел». Читатель видит сам, что это - жизнь очень полезная и похвальная! Вскользь упомянуто, что Оленин бывает в экспедиции и, вероятно, удовлетворяет таким образом своей страсти к резне. Между тем, мало-помалу казачка Марьяна или Марьянка, о которой постоянно, только что не по нескольку раз на странице говорится, что она красавица, силь-ная и здоровая девка, с развитыми формами, привлекает его внимание всё больше и больше. Он влюбляется в неё. Это весьма естественно и понятно. Он влюбляется, как никогда влюблён не был. Ещё понятнее. В самом деле, посреди цыганок, ресторанов, Сашек Б*, усталый, изношенный Оленин мало имел охоты влюбиться физически в здоровую и сильную женщину. Теперь же, когда «после трёхмесячной бивачной жизни, на умытом лице он чувствовал свежесть, на сильном теле непривычную после похода чистоту, во всех отдохнувших членах спокойствие и силу», как ему было не заглядываться на здоровую и сильную казачку? Он, по словам автора, и нравственно поднялся тоже высоко, ибо «вспоминал, что в опасности вёл себя хорошо, что он не хуже других (кого? сослуживцев, вероятно), и принят в товарищество храбрых кавказцев. Старая жизнь была стёрта и началась новая, совсем новая жизнь (признаемся, мы этого совершенно не видим; напротив того, мы видим продолжение старой жизни, но с новым притоком животной силы и, следственно, возможности и желания вести эту животную жизнь в огромных размерах)... Жизнь Оленина шла однообразно, ровно. С начальством и товарищами он имел мало дела. (Как же это? Ведь он был принят в товарищество храбрых кавказцев?) Офицеры считали его аристократом, и потому держали себя в отношении к нему с достоинством. Картёжная игра и офицерские кутежи с песенниками, которые он испытал в отряде, казались ему непривлекательными, и он удалялся из офицерского общества и офицерской жизни в станице. (Неужели для того, чтоб пить с Ерошкой вдвоём?)... Офицерская жизнь давно уже имеет свой определённый склад. Как каждый юнкер или офицер в крепости пьёт портер, играет в штос, толкует о наградах за экспедицию, так в станице регулярно пьёт с хозяевами чихирь, угощает девок закусками и мёдом, волочится за казачками, в которых влюбляется, иногда и женится. Оленин жил своеобразно и имел бессознательное отвращение к битым дорожкам. И здесь не пошёл он по избитой колее жизни кавказского офицера». Но как же это? Мы ничего этого не видим. Оленин пил чихирь с Ерошкой, просиживал целые вечера с хозяевами, нередко напивался с ними, волочился за Марьянкой и хотел на ней жениться, следственно, делал решительно всё то, что делают, по словам автора, в станицах. Что же касается до забавного уверения, что он имел отвращение от битых дорожек, то оно кажется нам совершенно несправедливым. Прежде всего, надо заметить, что люди, имеющие отвращение от битых дорожек, выказывают этим не оригинальный строй ума или иную от других натуру, а только претензию на неё и мелкое самолюбие. «Я-де, не такой, как другие; я сам по себе, я оригинален и, следственно, выше всех других». Кто, в самом деле, действительно оригинален, кто действительно выше других, кто создан иначе, тот не имеет отвращения от битых дорожек, но нейдёт по ним потому, что идти не может. Он часто, и как простодушно, сожалеет, что не может жить как все, сетует на себя, и иногда принуждает себя к этому, но всегда напрасно. Натура такого человека, её высшие потребности толкают его вон из колеи, и много натерпится он, много испытает горечи среди пошлости его окружающего мира. Оленин же, как мы видели, шёл положительно по битой дорожке, но только воображал, что нейдёт по ней, или только заявлял эту смешную, ни на чём не основанную претензию.
Он достиг полного физического благосостояния так, что внешний вид его совершенно сходился с тем, который имеют такие лица, поселившись на Кавказе. «Оленин на вид казался совершенно другим человеком. Вместо бритых скул, у него были молодые усы и бородка; вместо истасканного ночною жизнью желтоватого лица, на щеках, на лбу, за ушами был красный, здоровый загар. Вместо нового чёрного фрака была белая, грязная, с широкими складками черкесска и оружие. Вместо свежих крахмальных воротничков - красный ворот канаусового бешмета, который стягивал загорелую шею. Он был одет по-черкесски, но плохо. Всякий узнал бы в нём русского (как не узнать?), а не джигита. Таким образом, отстав даже от чистоплотности людей, живущих в обществе, и принявшись носить грязные черкесски и оборванные зипуны, он предался сладостному недугу любви, по любимому выражению сентиментальных офицеров 40-х годов. Довольство его собою и другими тем понятнее, что в станице он мог вполне удовлетворить своему самолюбию и тщеславию; он был большой барин в этой деревне, самый богатый из всех жителей. Все его принимали за начальника, и он сам, вместе со своим лакеем, Ванюшей, хвастался, что у него несколько своих домов и свои холопи.
Вскоре Оленин встречает одного из товарищей, офицера Белецкого, который, не умея заявлять отвращения к битым дорожкам и не раскидывая умом, свёл попросту дружбу с хорошенькой казачкой, Устенькой, дарит ей обновы и живёт припеваючи. Оленин бы и рад, да не умеет. Ему везде и всегда мешает его болезненное, неугомонное, из меры вон разросшееся самолюбие, тем более мучительное, что оно ни на чём не основано и приняло форму застенчивости. Он не может сказать слова с Марьяной и её подругами, без того, чтоб не вспыхнуть и не спросить себя: «Что они обо мне подумают? Что скажут? Как пошло то, что я говорю!» Какой этот Оленин несчастный! Нельзя не пожалеть его! Зачем живя, как другие его братья-офицеры, он не хочет, как они, оставить претензию на мелкий разбор себя и других, который породило опять-таки то же самолюбие. Демон тщеславия обуял его. Вся беда в том, что он прочитал кое-какие книжки, цитует Notre Dame de Paris, пожалуй, чего доброго, не удовольствовался, как Белецкий, «Мускетерами», прочёл «Confunsions d’un enfant du siecle» Альфреда де-Мюссе и другие премудрости, да и возмечтал, что он образованный, и принялся носиться с этой образованностью, как дурень с писаной торбой. Вот в какие, например, дебри заводит его эта образованность. Он уходит, по своему обыкновению, на охоту, да там и начинает философствовать, чего бы, конечно, не сделал ни один офицер одной с ним масти. В этом смысле, то есть в смысле нести бессмыслицу и чепуху, он, конечно, не ходит по битым дорожкам. Философствует он следующим образом. «Отчего я счастлив и зачем я жил прежде? Как я был требователен (вот этой требовательности его мы нигде не видали и даже не подозревали её), как придумывал и ничего себе не сделал, кроме стыда и горя! А вот, как мне ничего не нужно для счастья!.. И вдруг ему, как будто открылся новый свет. Счастье, вот что, сказал он себе: - счастье в том, чтоб жить для других. И это ясно. В человека вложена потребность счастья, стало быть, она законна. Удовлетворяя её эгоистически, то есть отыскивая для себя богатства, славы, удобства жизни, любви, может случиться, что обстоятельства так сложатся, что невозможно будет удовлетворить этим желаниям. Следовательно, эти желания незаконны, а не потребность счастья незаконна. Какие же желания всегда могут быть удовлетворены, несмотря на внешние условия? Какие? Любовь! Самоотвержение!.. Он так обрадовался и взволновался, открыв эту, как ему казалось, новую истину (Оленин одержим, как видно, недугом отыскивать новое, новую жизнь и новые (!!!) истины), что вскочил и в нетерпении стал искать, для кого бы поскорее пожертвовать собою, кому сделать добро, кого бы любить!.. Ведь ничего для себя не нужно – всё думал он - для чего же не жить для других? Он взял ружьё, с намерением скорее вернуться домой, чтоб обдумать это и найти случай сделать добро...»
Не знаем, рассуждают ли так двенадцатилетние гимназисты, прочитавшие мельком какую-нибудь нравственно-поучительную книжечку, но знаем, что взрослые люди так не рассуждают, как бы просты они ни были, и в особенности, не спешат домой, чтобы поскорее пожертвовать кому-нибудь собою. В этой веренице мыслей, беспорядочно нанизанных, выдуманных, приложенных для чего-то, ничто не вяжется, всё неразумно, все ребячески глупо. Радоваться, что нашёл новую истину, взволноваться, бежать домой, чтоб сделать кому-нибудь добро - из рук вон глупо. Оленин, конечно, мог думать всё это, от праздности и бедности соображения; но для какой цели автор пересказывает его бредни? Разве автор не знает, что жертвы не приносятся так легко, что самое слово жертва заключает в себе понятие страдания и мучительной с самим собою борьбы, что сам божественный учитель наш отступал перед жертвою и сказал, как и всякий человек скажет: «Да мимо меня идет чаша сия!» Если нелегко принести жертву, то нелегко и делать добро. Его надо делать умеючи. Скажем больше, надо дорасти нравственно до того, чтоб быть в состоянии сделать добро. Его нельзя приниматься делать в одно прекрасное утро, как пекут хлеб, или замесивают тесто. Добро ни с того, ни с сего, по щучьему веленью, смахивает на каприз, прихоть или на слова, фразы и пустомельство. Сам Оленин должен был слы-шать от нянюшки в детстве, что поступай как Бог велит - и будешь счастлив. Он, вероятно, слыхал и от школьного учителя в юности, что фразу няни: «Бог велит», можно свести на весьма незатейливые размеры. Иди по прямой дороге, не хитри с собою и другими, держись очень простых и уж никак не новых правил - и спокойствие будет с тобою. Спокойствие есть почти счастье. Неужели и эти азбучные понятия не были знакомы герою гр. Толстого, одержимому проказой изыскивать новые истины и заражённому желанием не ходить по битым дорожкам? Нам кажется, что особенно в этом случае битая дорожка была бы разумнее и не настолько уклонила бы героя от простого здравого смысла.
Впрочем, понятия Оленина о добре разнились несколько с общими понятиями о том же предмете. Пришедши домой, он спешит подарить Лукашке одну из своих лошадей. Попросту, люди нефилософствующие называют такие поступки не добром, а подарком, тем более, что Оленин не лишал себя; лошадь была стара, некрасива; он имел их две, да дома, по собственным словам, обладал конным заводом в триста голов. Он мог себе купить хотя десять лошадей. Лукашка, несмотря на свои уверения, что он ему отплатит при случае, что он ему друг и едва ли не пойдёт за него в огонь и воду, очень смышлён и не чувствует благодарности за подарок, полученный нежданно, беспричинно. Он будто угадывает, что это - новая прихоть барича. Вся станица отча-сти разделяет это мнение. У иных Оленин прослыл глупцом, а у других плутом; они заподозрили его в том, что он делает это не спроста, а из каких-нибудь неблаговидных, ещё ими неразгаданных целей. Это последнее воззрение особенно верно: люди грубые, полудикие, глядят на жизнь единственно с практической стороны, и, не имея понятия о дурачествах, до которых доходят люди праздные и богатые, о брожениях неразвитой и праздной мысли в их пустой голове, натурально заподозревают их в плутовстве. Подарив лошадь, Оленин доставил себе большое удовольствие, ибо имел случай рассказать Лукашке, как он богат, и что у него есть лошади, которые стоят по триста рублей штука, и несколько домов в три яруса. Услышав чудеса эти, Лукашка не мог сообразить, зачем же приехал этот богач в эту глушь! Лукашка обращался просто с Олениным, и это стало ему неприятно, до первой, впрочем, попойки, в которой он потопил свой зашевелившийся аристократизм. Оленин, возясь с новой открытой им истиной, поделился ею с Ванюшей, который, как и следовало ожидать, её не одобрил и заметил, что денег у них почти совсем нет. Добро представлялось Ванюше, как и Оленину, в виде подарков и бессмысленной траты денег.
Но вот, благодаря Белецкому, Оленин сближается с Марьяной, с которой он до тех пор не дерзал говорить. Отчего? От избытка любви? Странно нам это? Привычка говорить с цыганками, взятая в Москве, должна была помочь герою. Да, но «в Марьянке было нечто такое, что останавливало дерзкого». Полагаем, что не более как и в цыганке, ибо из всех последующих разговоров и сцен мы видим везде сильную, здоровую, смелую женщину, которая неразборчива в выражениях и охотно даёт сдачи, как говорится по-русски, но затем не сердится и не оскорбляется. Она не принадлежит к тем грациозным типам, о которых можно сказать словами поэта: «Как лань лесная боязлива!» Она не принадлежит и к преданным и нежным созданиям, какова Бэла, каковы многие другие обаятельные типы женщин, взятые поэтами из племён полудиких или совсем диких. Повторяем, Марьянка не Бэла, не Тамань, не Гаидэ, не Атала и не черкешенка из «Кавказского Пленника» Пушкина. Марьянка, в поэтическом описании графа Толстого, напоминает изваяния Юноны, а по нравственному складу - русскую бабу со всей её непривлекательной грубостью приёмов и выражений. Вот одно из описаний Марьянки; описания её красоты повторяются не один раз в повести; но, прочитав одно из них, можно иметь полное понятие о чисто-материальной красоте казачки. «Он смотрел на двигавшуюся перед ним сильную, молодую женщину. Заходила ли эта женщина в сырую утреннюю тень, падавшую из дома, выходила ли она на середину двора, освещённого радостным, молодым светом, и вся стройная фигура её в яркой одежде блистала на солнце и клала чёрную тень - он одинаково боялся потерять хотя одно из её движений. Его радовало видеть, как свободно и грациозно сгибался её стан, как новая рубаха, составлявшая всю её одежду, драпировалась на груди и вдоль стройных ног; как выпрямлялся её стан и под её стянутою рубахой твёрдо обозначались черты дышащей груди; как узкая ступня, обутая в красные старые черевики, не переменяя формы, становилась на землю; как сильные руки с засученными рукавами, напрягая мускулы, будто сердито бросали лопатой, и как глубокие чёрные глаза взглядывали иногда на него. Хотя и хмурились тонкие брови, но в глазах выражалось удовольствие и чувство своей красоты... Черты её могли показаться слишком мужественными и почти грубыми, если бы не этот большой странный рост, и могучая грудь и плеча и, главное, если бы не это строгое и вместе нежное выражение длинных, чёрных глаз, окружённых чёрною тенью над чёрными бровями, и ласковое выражение лба и улыбки... От неё веяло девственною силою и здоровьем...»
Итак на вечеринке Оленин сблизился с Марьянкой, насколько мог, ибо и там самолюбие мучило его, «и там он мялся, придумывал, что бы сказать, чувствовал, что внушал любопытство, может быть, вызывает насмешку (для людей как Оленин, насмешка самая безобидная и самая невинная хуже всякой беды, хуже ножа) и сообщает другим свою застенчивость».
Оставшись наедине с Марьянкой, Оленин спрашивает: «Отчего она не хочет поцеловать его.
- А так не хочу и всё, - отвечала она, подошла к двери и стала стучать в неё.
Он хотел поцеловать её, но она отвела его рукою от себя, и он стал просить, чтоб их выпустили из избы, где оба они были заперты.
Марьянка засмеялась.
- Боишься меня, - сказала она.
Когда отворили дверь, и Марьянка отскочила на Оленина, так что бедром ударилась о его ногу, он подумал:
«Всё пустяки, что я прежде думал: и любовь, и самоотвержение, и Лукашка. Одно есть счастье - кто счастлив, тот и прав».
И с неожиданною для себя силою он схватил и поцеловал красавицу Марьянку в висок и щёку. Марьяна не рассердилась, а только громко захохотала и выбежала к другим девкам».
Так вот как теория добра и самоотвержения, забродившая в голове Оленина в одно утро, выскочила из неё в другое, по милости толчка, полученного бедром в ногу. Совершенно верно и совершенно последовательно. Нельзя себе представить, чтобы могло произойти что-нибудь иное. Оленин так создан, что он должен любить только одним, очень обыкновенным образом, и ему не может быть знакома любовь, в высшем смысле слова. Точно так же незнакомо ему и то, что у людей развитых понимается под словами мысль, мышление. Как только он начинает размышлять, то заходит, очевидно, в чужую сферу, где он не хозяин. Видно, как его пустая голова, и, что ещё хуже, голова спутаная до мысли додуматься не в силах, и что вместо мысли он заносит страшную чепуху. И зачем ему хочется мыслить? Или лучше, зачем автор, создавший его, немилосердно вталкивает его в чуждую для него область? Вот ещё пример слабой способности сообразительности, соединённой с неизменной претензией сказать что-нибудь новое, оригинальное. «Никаких здесь нет бурок, - размышляет Оленин, - стремнин, Аммалат-Беков, героев и злодеев». Что это за бессмыслица! Как же это на Кавказе нет стремнин и бурок? А Терек с стремнинами, а черкесы в бурках, которых видали все бывшие на Кавказе, видал следственно и Оленин! Как же это нет героев, злодеев! Положим, что Аммалат-Беков действительно нет - и слава Богу. Аммалат-Бек - лицо мелодраматическое и народился на Руси нечаянно, в подражание Жану Сбагару или иному герою плохих драм и романов. Граф Л. Толстой не пишет плохих романов, но великолепная сцена выкупа тела убитого черкеса, сцена смерти джигитта как нельзя нагляднее рисует нам героя-черкеса в его первобытной дикости, гордости и поэзии. Оленин, побывавший в экспедиции, не мог не встретиться с таким же первобытным типом героя. Что же касается злодеев, то старый охотник Ерошка был когда-то разбойником, грабил и убивал безразлично и черкесов и русских; Лукашка обещает быть таким же разбойником; они оба, конечно, не мелодраматические злодеи, но звери в полном смысле слова. Звериное чувство в дикаре-человеке описано графом Л. Толстым удивительно, в сцене, когда Лукашка сторожит плывущего абрека и, убив его, с звериной радостью смотрит на тело, которое обирает, и раздевает донага. Сказав вышеприведённые слова, Оленин продолжает предаваться несчастной своей страсти к философствованию. «Люди живут, как живёт природа; умирают, родятся, совокупляются, и никаких условий, исключая тех неизменных, которые положила природа солнцу, траве, дереву, зверю. Других законов у них нет, и оттого эти люди в сравнении с ним самим казались ему прекрасны, сильны, свободны, и, глядя на них, ему становилось стыдно и грустно за себя». Как же это? Опять совершенно непонятно и нелогично. Оленин, столько раз укорявший Лукашку, что он застрелил человека как зайца, и старавшийся пробудить в нём человеческое чувство милосердия и жалости, этим одним уже стоит выше Лукашки. Как ни жалок, ни пуст, ни грязен и ни мелок Оленин, но он всё-таки во многих случаях выше и лучше Лукашки, если не по душе, то по пониманию, которое и в необразованном члене образованного (то есть не дикого) общества гораздо выше, чем у члена дикого племени или дикой общины. Оленин, что бы он ни был, не мог не усвоить себе хотя некоторые понятия всякого общества, вышедшего из первобытной дикости. Мы не будем долго останавливаться на подробностях, ибо всякий читатель может очень легко убедиться, прочитав Казаков графа Толстого, что Оленин (помимо собственной воли и, кажется, воли самого автора) стоит выше Лукашки и Ерошки. Он стоит выше их не по свойствам души, ума и сердца - ибо Лукашка от природы умнее, сильнее, даровитее Оленина - но только по своему развитию, как ни бедно, как ни ничтожно оно. Малая толика образования, которую удалось Оленину захватить в среде общества, очевидно, сделала из него если не вполне человека, то уже и не дозволила ему остаться в ряду двуногих зверей. Оленин не способен, как Лукашка, убить без нужды человека с злобною радостью охотника, травящего зверя, не способен потом с жадною удалью обирать его и раздевать донага; он знает, что жизнь человеческая дороже и священнее жизни дрозда или зайца; он знает, что убить человека без нужды, не из защиты - значит нарушить святой и великий нравственный закон. Оленин не способен, как Лукашка, не будучи в состоянии победить сопротивление женщины, стращать её, что она будет плакать от него, когда он станет её мужем. Как ни испорчен Оленин, он обращается с женщиной больше по-человечески, чем по-зверски. Он не способен бить её, не способен издеваться над ней, не способен пьяный влезать к ней в комнату; правда, что и Оленин подозрителен, как Лукашка, но в меньшей степени. Оленин заподозрил приятеля, Лукашка заподозрил Оленина, получив от него подарок - но это происходит в одном от испорченности полуобразования, а в другом от совершенного отсутствия даже и полуобразования. Подозрительность есть отличительная черта всех дикарей; чем более образован и развит человек, тем он доверчивее и способнее видеть и оценить всё хорошее в людях-братьях. Люди, взросшие и воспитанные в истинно гуманной и следственно образованной среде, где всё дышит любовью к ближним и желанием добра, делаются доверчивее и, развив в себе всё хорошее человеческой души, признают это и в других. Если жизнь их не всегда пропитана гуманностью, то правила, внушаемые детям такой среды, пропитаны ею, и эти правила руководят человеком и смущают его, когда он отступает от них. Человек может ошибаться, уклоняться от правил, ему внушённых, но, несмотря на это, не теряет веры, идёт дальше, скорбит, и кончает тем, что находит добро, в других, и не в одном, а во многих. Лукашка не способен, разумеется, лелеять в себе такую веру и не давать ей угаснуть: он вовсе не знаком с нею. Она кажется ему глупостью, невозможностью. Он способен только искать дурное, заднюю мысль и, разумеется, найдёт её даже и там, где её нет и тени. Оттого Лукашка, услышав от Оленина, что он не прочь бы купить у него лошадь - слово, сказанное, очевидно, вскользь, без всякого намерения, говорит приятелю:
«- Спасибо, отдарил его кинжалом, а то коня было просить стал».
Но верх нелогичности и спутанности понятий Оленина явственно и резко высказывается в письме его к родным. Мы не можем не попытаться разобрать его, ибо в нём, как в фокусе, сосредоточилась и мораль повести, и стремления героя, и новая теория жизни: так, по крайней мере, думает герой повести графа Толстого. «Мне пишут из России письма соболезнования, боятся, что я погибну, зарывшись в этой глуши. Говорят про меня: он загрубеет, от всего отстанет, станет пить и ещё, чего доброго, женится на казачке».
Мы можем только удивляться, что родные Оленина боятся, чтобы он не погиб на Кавказе. Если бы у них была капля здравого смысла, они бы поняли, что Оленин пропадал и в Москве, что он одинаково, как там, так и тут, жил жизнью животного, что он загрубел ещё там, что отстать ему не от чего, ибо он ни к чему не приставал, что он пил в Москве, так же как на Кавказе. Они могли бояться, что он женится на казачке столько же, как могли бояться, что он женится на цыганке.
«Недаром, говорят, Ермолов сказать: кто десять лет прослужит на Кавказе, тот либо сопьётся с кругу, либо женится на распутной женщине. Как страшно!»
Действительно, страшно! Кому не покажется страшным такая катастрофа! Ведь, это - конечное падение человека. Спиться с кругу, назвать женой и матерью детей своих распутную женщину - великое несчастье, и только Оленин, да и то зафилософствовавшись, может иронически отзываться об этом и восклицать: «Как страшно!» Невзирая на это, этот же самый Оленин при мысли, что Марьянку он мог бы сделать своей любовницей, содрогается. Стало быть, ничего нет особенно отрадного, даже и для него, назвать женою распутную женщину. Но мы уже сказали, что лишь только Оленин старается мыслить, как заносит страшную бессмыслицу и путаницу. Надо простить ему это и примириться с ним. Он не учился, необразован, а так набрался кое-каких понятий, не вполне поняв их. В слабой голове всё спуталось, а самолюбие его так велико, что он не сознаёт своей слабости умственной и своего глубокого невежества, а туда же, как и люди развитые, стремится рассуждать, ну, и выходит то, что мы видим. Он продолжает:
«В самом деле, не погубить же мне себя, тогда как на мою долю могло бы выпасть великое счастье стать мужем графини Б*, камергером или дворянским предводителем. Как вы мне гадки и жалки! Вы не знаете, что такое счастье, и что такое жизнь во всей её безыскусственной красоте. Надо видеть и понимать, что я каждый день вижу перед собою: вечные неприступные снега гор и величавую женщину в той первобытной красоте, в которой должна была выйти первая женщина из рук своего Творца, и тогда ясно станет, кто губит себя: кто живёт в правде или во лжи - вы или я».
Что ни слово, то ложь и ходули! Особенно не любим мы злоупотребления сопоставлений, и надо признаться, что нигде не встречается их столько, как на матушке Руси. Они приобрели право гражданства, являются под тысячью формами, под различными масками и всегда одинаково ложны, а часто бессовестно-наглы. Вот и в письме Оленина сопоставление совершенно бессовестное. С одной стороны, он говорит о какой-то графине Б*, вероятно, очень пустой, негодной женщине, о лжи гостиных, о камергерстве и восклицает: «Как вы мне гадки и жалки! Мы не спорим, что такие люди могут быть гадки и жалки! Сам Оленин гадок и жалок! Но дело не в том - он сопоставляет этих людей с чем, с кем? Ведь людей надо сопоставлять с людьми же: стало быть, их надо сопоставить с Ерошкой, Лукашкой, или хорунжим, отцом Марьянки, который говорит совершенную бессмыслицу, или наконец с Назаркой. Нет! Нет! Оленин сопоставляет их с горами, да с величавой женщиной в первобытной красоте. Ведь и на Руси есть если не горы, то природа, говорящая душе; ведь и на Руси есть, помимо гостиных, женщины, и уж никак не равные Марьянке, которая с величавостью первобытной женщины соединяет привычку говорить грубые речи и обыкновение кокетствовать по-своему. У ней есть даже желание выйти замуж за богатого барича, из-за денег, для того, чтобы стать барыней. Быть может, разница между ней и другими женщинами из гостиных только в том, что она толста, а они хилы, у ней коса - у тех фальшивые букли. Не отрицаем, что физическою красотою презирать нельзя - но ведь это не всё; вся женщина не в одной материальной красоте; это все знают, кроме, видно, Оленина; но мы от него этого и не требуем. Нам только досадно, что он не знает своего места, лезет неловко на ходули! Нам досадно, что, поговорив с презрением о гостиных, где женщины шевелят губки, где спрятаны и изуродованы их слабые члены (нельзя же ходить всем в рубашках, как Марьянке), восклицает: «Мне становится невыразимо гадко!» Да отчего же? Откуда это благородное негодование? Читатель подумает, что Оленин превыше суеты мелкого мира, преисполнен добродетели и ведёт жизнь святую, занят возвышенными мыслями, наукой, изобретениями и готовится стать благодетелем человеческого рода - а он пьёт себе чихирь с Ерошкой! Мы понимаем, что он желает жениться на Марьянке и - Бог с ним - будет ли он муж Марьянки, или графини Б* - это всё едино. Он от этого не станет ни лучше, ни хуже; но когда он прибавляет, что он не смеет (жениться на Марьянке), потому что это было бы верх счастья, которого он недостоин, то мы не понимаем ровно ничего. Что это за новый каприз? Что за новая претензия? Чем он хуже Марьянки? Её умственные, сердечные свойства не описаны; сказано только, что она здоровая, толстая и сильная девка - и больше ничего. Мы видим, что она работящая и не без характера, она бой-баба, как говорится. Это-то и надо Оленину; он попался бы ей в руки и, вероятно, она отучила бы его от праздности и пьянства. Мы всегда бы согласились с Олениным, если б он нам высказывал просто свои простые и незатейливые желания; к несчастью, он не может никак ограничиться простым заявлением чувств своих: ему всё надо выдумывать новые истины, новые чувства, новые теории, и надо становиться на ходули, жалеть других и брезгать ими. Даже и тогда, когда он говорит, что недостоин счастья стать мужем Марьянки, он рисуется. В сущности, он знает, что Марьянка - простая, красивая и сильная девка, которую осчастливить не мудрость; но ему мало этого. Ему хочется уверить других, что она что-то такое особенное, что не дано всякому понять; что надо даже отрешиться от прошлого, чтобы понять это величавое создание. Даже чувство, которое она внушает ему, не похоже, по его уверению, ни на какое другое чувство. Это - опять что-то особенное. Судите сами. «Это было чувство, не похожее ни на тоску одиночества и желание супружества, ни на платоническую (платоническую?!!), ни ещё менее плотскую любовь, которые я испытывал... После вечеринки, на которой я был вместе с нею и прикоснулся к ней, я почувствовал, что между мною и этой женщиной существует неразрывная, хотя и непризнанная связь, против которой нельзя бороться».
Ну, неправда ли - мы ссылаемся на всех - что самые простые, всем известные чувства или, лучше, ощущения Оленин силится, надрывается выдать за новые, никому не известные, и им открытые и прочувствованные? И как же это, от прикосновения открывается, что между им и ею неразрывная связь? От прикосновения всегда родится ощущение - и только; но связь, ещё неразрывная, ведь это просто чудеса. И какая же это была любовь, если не плотская? А вот какая:
«Я говорил себе: неужели можно любить женщину, которая никогда не поймёт задушевных интересов моей жизни?» Конечно, можно; это все знают, и знают, как называется эта любовь - а именно любовью плотской, по выражению Оленина. Что же касается до претензии, что Марьянка не может понять задушевных интересов его жизни, то мы видели и эту жизнь, и эти интересы, и убеждены, что между ним и ею в этом отношении могло бы произойти полное поглощение одного другим, по понятиям и выражению Мишле.
«Неужели можно любить женщину за одну красоту? Любить женщину статую (продолжает Оленин спрашивать себя и отвечает), а я уже любил её, хотя ещё и не верил своему чувству».
Неужели Оленин не знает и того, что он сам, как и многие другие, способен любить женщину только за красоту; что ему дела нет ни до ума, ни до сердца, ни до понятий, ни до чего другого, кроме этой красоты? Мы нисколько не хотим вдаваться в крайность и уверять, что нельзя любить дикарку. Самые факты - ибо это случалось нередко и с действительно образованными людьми - громко бы заговорили против нас. Нам кажется, что человек образованный может полюбить (полюбить, привязаться, а не предаться минутной прихоти) дикарку тогда, когда находит в ней задатки ума и сердца, которые и без образования и развития заявляют себя. Всякий образованный человек может полюбить дикарку, когда в её натуре заключается нечто высшее, хорошее, какое-нибудь бессознательное стремление к лучшему. Всякий образованный человек может быть пленён и увлечён привязанностью существа нежного и доброго, и страстью, внезапно вспыхнувшею в сердце полудикой женщины. Мы знаем из путешествий, что дикарки часто привязываются с бесконечною нежностью и самопожертвованием к людям образованным, будто угадывая, что они представители другого строя общества, других понятий. Они будто чутьём, столь развитым в женщинах, угадывают, что в этом мужчине есть что-то высшее и лучшее, чем его белое лицо, нежные руки, красивые приёмы. За этой, их прельстившей формой, они угадывают другие свойства, какие именно они не умеют сказать, но им симпатичные. Мы назовём их за них - они угадывают и любят в этом мужчине человека, столь не похожего на дикаря-зверя, презрение и оскорбления которого им часто приходилось выносить. Понятно, что безграничная любовь дикарки, её простодушное обожание и бессознательное отдание всего своего существа во власть любимого человека может прельстить и увлечь молодого человека. Сам того не замечая, он привяжется, полюбит. Напрасно бы стали мы искать чего-нибудь подобного в отношениях Оленина к Марьянке. Их отношения проще, хотя он и выбивается из сил, чтоб уверить всех, что любовь его нечувственная, или плотская, как он выражается. Да по правде сказать, в ней и любить-то иною любовью нечего. Марьянка рта не разинет, чтоб не выбранить кого-нибудь и не сказать грубости; Марьянка обращает своё внимание на Оленина тогда, когда узнаёт, что богатый русский хочет на ней жениться. Она даёт тотчас своё согласие на брак с ним и, не задумавшись, жертвует женихом своим, Лукашкой. Если же свадьба её не состоялась, то виновата в этом не она, а сам Оленин. Он по своей бестактности, навязчивости и изумительной бессердечности пристаёт к ней со словами любви и требованиями в ту минуту, как Лукашка, который ей всё-таки нравится, умирает в мучениях. Слова любви неуместны и противны при смерти постороннего, не только жениха, и не надо много сердца и деликатности чувств, чтоб прогнать человека прочь от себя, если он не понимает, что невозможно говорить о любви и браке в доме, где есть умирающий. Пусть читатели судят сами, что могла сказать Марьянка, выдержав следующую сцену. Смертельно раненый Лукашка умирает в мучениях. Оленин приходит к Марьянке.
«- Марьяна, - сказал он, - а Марьяна, можно войти к тебе?
Вдруг она обернулась. На глазах её были чуть заметные слёзы. На лице была красивая печаль. Она посмотрела молча и величаво.
Оленин повторил:
- Марьяна, я пришёл...
- Оставь, - сказала она.
Лицо её изменилось, но слёзы полились у ней из глаз.
- О чём ты? Что ты?
- Что? - повторила она грубым и жёстким голосом. – Казаков перебили, вот что.
- Лукашку, - сказал Оленин.
- Уйди. Чего тебе надо?
- Марьяна, - сказал Оленин, подходя к ней. -Никогда ничего тебе от меня не будет. Марьяна, не говори, - умолял Оленин.
- Уйди, постылый! - крикнула девка, топнула ногой и угрожающе надвинулась к нему».
Тут что ни слово, то самая пошлая бестактность, самое бесстыдное себялюбие. Можно подумать, что Оленин не знает, что Лукашка умирает; напротив того, он не только знает это, но ещё видел, как его ранили и как его, подняв, понесли в станицу. С эгоизмом, свойственным одной чувственной любви, с её беспощадною свирепостью и привязчивостью, он пристаёт: «Пойдёшь за меня?» А ещё хотел жертвовать собою! Тут дело шло не о жертве, а о том, чтобы повременить - он и того не сумел, и всякая Марьянка, не лишённая намёка на женские свойства, должна непременно воскликнуть: «Уйди! Постылый!»
После этого Оленин уезжает. Нам сдаётся, что отъезд этот слишком внезапен, что и Оленин по своему характеру не может так скоро уехать, да и Марьянка, одумавшись и погрустив об Лукашке, пошла бы за барина и зажила с ним очень счастливо. Оно, конечно, так, но тогда нельзя бы было Оленину жалеть, что он не стал казаком, который крадёт табуны, или кабаном, который бегает в лесу, или Лукашкой, который режет людей как кабанов, напивается чихирю, пьяный влезает к ней в окно и совершает прочие удальские шутки и ухарские выходки, столь нравственно высокие и человечески прекрасные! Тогда нельзя бы было горевать Оленину, что и малая толика образованности, захваченная им, сделала его не способным к таким подвигам. Что с ним станется - автор не говорит нам, но из данных мы можем заключить о последствиях. Он возвращается домой и, вероятно, заживёт тою же жизнью ресторанов и самых пошлых из всех пошлых гостиных; быть может, накутившись вволю, станет мужем графини Б*. Ведь один одного стоит. Умная, развитая женщина не может выбрать Оленина мужем. Его удовлетворят экипажи, общество Сашек, и другие благодати. Между графиней Б*, изуродованной воспитанием и условиями самой гнилой и низкой среды, и Марьянкой, душа которой заключена как гусеница в вечной тьме ночи, и которая ничего не поймёт кроме материальных удобств и наслаждений, не так много разницы, как кажется с первого, поверхностного взгляда. Обеим одинаково недоступны высшие сферы человеческого понимания и человеческого бытия. Обе они не живут жизнью женщины и обе живут жизнью животного. Ни одна из них не подойдёт под требования человека с душой, сердцем и образованием, но обе удовлетворят Оленина. У одной развитые формы молодого тела, у другой - щёгольские приёмы, которые польстят тщеславию пустого мужа, ибо друзья его Сашки будут ценить высоко эти светские совершенства. Мы уверены даже, что графиня Б*, о которой с таким презрением и высокомерием в минуты резонёрства отзывается Оленин, была бы женою, вполне его осчастливившей. Её состояние, положение в свете, ласковые речи князя Сергия и других, возможность говорить «ты» Сашке, полковнику и флигель-адъютанту, совершенно бы ублажили его и заставили бы скоро позабыть молодое и здоровое тело Марьянки, все достоинства которой только в этом и заключаются.
Повесть кончается. Что хотел сказать ею автор, или что, помимо его воли, сказалось ею и тем выдало нам воззрения автора на жизнь? «Да, ничего, - скажут многие, - перед вами художественные картины природы, сцены убийств, описания сбору винограда; читайте, наслаждайтесь, удивляйтесь!» - Я читала, читали и другие, наслаждались, удивлялись, осыпали автора похвалами, а потом всё-таки задумывались. И дума эта не была ни лёгкая, ни радостная, ни утешительная. Дума была тяжкая, безотрадная, горькая. Перед вами поэма, где воспета не с дюжинным, а с действительным талантом отвага, удаль, жажда крови и добычи, охота за людьми, бессердечность и беспощадность дикаря-зверя. Рядом с этим дикарём-зверем унижен, умалён, изломан, изнасилован представитель цивилизованного общества, да и какой ещё представитель. Он взят преднамеренно в самой тине этого общества, вытащен из грязи ресторанов, из вонючей и затхлой атмосфера Сашек, из удушливого воздуха гостиных, и выдаётся нам за образец и продукт цивилизации, за её единственный продукт, как будто настоящая цивилизация даёт такие гнилые плоды. Этот образец цивилизованного, будто бы, общества, чахлый, подленький, мелкий, но самолюбивый, самонадеянный и резонирующий вкривь и вкось, брошен посреди дикого племени; автор (или просто таков результат повести) силится доказать, что дикие велики и счастливы, образованные - низки, мелки и несчастливы. Что представитель цивилизации рад бы достичь счастья, но уж не может, рад бы сделаться великим, как Лукашка, но уж сил его на то не хватит, а отчего? - Оттого, что он образован. Вот мысль повести, или вот мысли, которые она навевает.
Мы уже пытались доказать, что Оленин необразован, неумён, неблагороден, нечист и неразвит, что он - грязный представитель полуобразования, что он мало чем отстал от Лукашки, которому столько завидует. Но каков он ни есть, он всё-таки во многих случаях выше Лукашки, Назарки и других его окружающих личностей, преисполненных следующей поэзии, к которой он уже не способен: «Придут, бывало, казаки, или верхом сядут; скажут, пойдём хороводы разбивать, и поедут, а девки дубьё возьмут. На масленице, бывало, как разлетится какой молодец, а они бьют, лошадь бьют, его самого бьют. Прорвёт стену, подхватит какую любит и увезёт... Всю ночь гуляют, а казачки бочки выкатят на двор, засядут, всю ночь до рассвета пьют... Другой раз три дня гуляют; батюшка, бывало, придёт, красный, распухнет весь, без шапки, всё растеряет, придёт и ляжет. Так двое суток спит...
Молодец погнал баранту из аула в горы; русские пришли, зажгли аул, всех мужчин перебили, всех баб в плен побрали. Молодец пришёл из гор: где был аул, там пустое место; матери нет, братьев нет, дома нет, одно дерево осталось. Молодец сел под дерево и заплакал...
Прошло ещё мгновение, и казаки с гиком выскочили с обеих сторон воза. Лукашка был впереди. Оленин слышал лишь крик и стон. Он видел дым и кровь... ужас застлал ему глаза… Лукашка, бледный как платок, держал за руки раненого чеченца и кричал: «Не бей его! Живого возьму!» Лукашка крутил ему руки. Вдруг чеченец вырвался и выстрелил из пистолета. Лукашка упал. На животе у него показалась кровь: он вскочил, но опять упал, ругаясь по-русски и по-татарски. Крови на нём и под ним становилось всё больше... Один только (чеченец), весь израненый, был жив. Он, точно подстреленный ястреб, весь в крови (из-под правого глаза текла у него кровь), стиснув зубы, бледный и мрачный, раздражёнными, огромными глазами озираясь во все стороны, сидел на корточках и держал кинжал, готовясь защищаться. Хорунжий подошёл к нему и, боком как будто обходя его, быстрым движением выстрелил из пистолета в ухо. Чеченец рванулся, но не успел и упал. Казаки, запыхавшись, растаскивали убитых и снимали с них оружие... Лукашку понесли к арбе. Он всё бранился по-русски и по-татарски. Скоро он замолк от слабости».
Мы тоже не отрицаем поэзии в этих строках, поэзии особого ирокезского рода. Мы даже убеждены, что «Казаки» гр. Толстого будут больше оценены известным разрядом читателей, чем было оценено известным разрядом людей то место в романе Виктора Гюго, где говорится о знаменитом слове генерала Камбрана. Известный разряд читателей умилялся над словом Камбрана и называл эту главу романа новой Иллиадой. Мы также готовы «Казаков» гр. Толстого признать новой Иллиадой, понимая под Иллиадой эпическую поэму, сюжетом которой дикая сила, кровь, кровь и ещё кровь. Мы даже убеждены, что Лукашка, ругаясь по-русски и по-татарски, далеко оставил за собою слово генерала Камбрана; оно так и должно быть. Как казаку сравниться с французским генералом, какой бы мясник он ни был. Чего не воспевают люди?.. Гр. Толстой со своей повестью блистательно доказал это! Что ж? Это - дорога битая; по ней ходили большие и малые, великие и невеликие; Виктор Гюго и г-н де-Мален, граф Толстой и покойный Д. Давыдов. Но только какая разница! Французы, какие бы они ни были поклонники тех героев, которые считают людей chair ; canon (мясом для пушек), не могут дойти до тех геркулесовских столбов жестокости и дикости, до которых достигает широкая, неустрашимая, ни от чего не отступающая наша натура. Виктор Гюго и де-Мален воспевают резню, но резню сражения - никак не резню детей, женщин под пьяную руку. Но если уж воспевать, то воспевать; зачем останавливаться, надо доходить до последних результатов и геркулесовских столбов. Дорога битая, повторяем - мы вступили на нее, дай Бог успеха! Только куда она нас выведет или заведёт нас?
Кроме этих лиц, в романе графа Толстого является русский Патфайндер. Кто не помнит этого сильного, простого, честного лица в романе Купера, очерченного кистью не менее сильной, простой и честной? Гр. Толстой не подражает Куперу. Его герой является весьма самобытным, на других не похожим и сохраняет особые, свойственные Кавказу черты, никак не похожие на черты других лиц, других местностей. Вот очерк русского Патфайндера, чисто-противоположный американскому. Американец честен до бескорыстия, воздержан только что не до аскетизма, благороден до идеальности, мягкосердечен как женщина, бесстрашен как лев, сострадателен как сестра милосердия и добродушен, как дитя. Кавказский Патфайндер... но вот его очерк, сделанный рукою художника: «Его все знали по полку за его старинное молодечество. Не одно убийство и чеченцев и русских было у него на душе. Он и в горы ходил, и у русских воровал, и в остроге два раза сидел... Он (кавказский Патфайндер) рассказал ему про старое житьё казаков, про своего батюшку широкого, который один на спине приносил кабанью тушу в 10 пуд и выпивал в один присест два ведра чихирю. Рассказал про своё времечко и про своего няню (друга) Гирчика, с которым он из-за Терека во время чумы бурки переправлял... «Так-то, отец ты мой, - говорил он, - я бы тебе всё показал. Ныне Ерошка кувшин облизал, а то Ерошка по всему полку гремел. У кого первый конь, у кого шапка гурда, к кому выпить пойти, с кем погулять? Кого в горы послать Ахмет-Хана убить? Всё Ерошка отвечал. Кого девки любят? Всё Ерошка отвечал. Потому что я настоящий джигит был. Пьяница, вор, табуны в горах отбивал, песенник, на все руки был. Я был Ерошка вор; меня мало по станицам, в горах-то знали. Кунаки князья приезжали. Я, бывало, со всеми кунак (друг). Татарин - татарин, армяшка - армяшка, солдат - солдат, офицер - офицер. Мне всё равно, только бы пьяница был...»
Несмотря на этот цельный очерк, лицо кавказского охотника оказалось бы не совсем отделанным, если бы автор не прибавил к нему следующей черты, чрезвычайно верной, ибо она доказывает, что в полудиком человеке, совершенно испорченном средою, зверскою и вместе грязною, непременно уцелеет человеческое чувство жалости, если им ещё не завладела удаль, прыть и ухарство, свойственные Лукашкам, так как они состоят в должности героев.
Кавказский Патфайндер рассказывает следующее:
«А то раз сидел я на воде; смотрю, зыбка с верху плывёт. Вовсе целая, только край отломлен. То-то мысли пришли. Чья такая зыбка? Должно, думаю, наши черти-солдаты в аул пришли, чеченок набрали, ребёночка убил какой чорт. Взял за ножки, да об угол. Разве не делают так-то? Эх, души нет в людях! И такие мысли пришли, жалко стало. Думаю, зыбку бросили, и бабу угнали, дом сожгли, а джигит взял ружьё, на нашу сторону пошёл грабить. Всё сидишь, думаешь. Да как заслышишь по чаще табунок ломится, так и застучит в тебе что...»
Довольно. Очень понятно. Старик, пьяный охотник, шут, вор и при случае убийца, с сожалением думает о убитом, головой об угол, младенце. Он ещё не закалился, не окреп духом; ведь он не герой, не витязь в роде Лукашки, он ещё всё про-стой охотник, и потому, раздумывая, жалеет; но сердце его стучит и бьётся, действительно бьётся только тогда, когда он заслышит зверя и притаивается, чтобы убить его. Черта мастерская. Очевидно, что она указывает на то, что в Ерошке есть зачатки Лукашки. При большем развитии ухарства и удали, как у Лукашки, Ерошка не стал бы помышлять, сидя у воды, об убитом младенце, не стал бы караулить и зверя, чтобы добыть его шкуру, а стал бы сам жечь аулы, уводить чеченок и убивать их детей, стал бы караулить человека, и сердце бы его стучало, когда бы он раздевал его донага, чтобы обобрать его. Оружие и одежда дороже шкуры зверя.
Русский Патфайндер цельнее американского, потому что он грубее, циничнее; он не так односторонен, как тот; он к прочим уже поименованным свойствам присоединяет ещё одно, весьма драгоценное при разборе этой личности, выхваченной целиком из действительности и от которой так и веет правдой. Русский Патфайндер резонёр и скептик.
«- Я так думаю, что всё - одна фальшь, - говорит он, намекая на самые простые правила нравственности.
- Что фальшь? - спрашивает Оленин.
- Да что уставщики говорят, - отвечает он и прибавляет, что, по его мнению: сдохнешь, трава вырастет на могилке - вот и всё».
Ну, куда же после всего этого, вместе взятого, равнять его с односторонним американцем, бессребреником, безбоязливым, но в крови человеческой руки не окунавшем, в воровстве их не маравшем, выступающем во всём величии человеческого достоинства. Оно сохранилось в нём неприкосновенно в пустынях нового света, при постоянных сношениях с краснокожими. Чувство человеческого достоинства так сильно и твёрдо в американце, что оно спасло его от всех пороков, заражающих обыкновенно европейца, когда он близко подходит к диким племенам низших или слабейших людских пород.
Нам нечего прибавлять к характеристике кавказского охотника: она сама за себя говорит, и, повторяем, от неё веет правдой. Мы бы могли только удивляться искусству и мастерству писателя, если бы тенденции его так ярко, так смело и так поразительно не кидались в глаза читателю. Когда мы пишем эти строки, нам приходит в голову, что не нашему бы слабому перу делать разбор такого оригинального и смелого произведения, каковы Казаки гр. Толстого. Оно наводит на целые вереницы мыслей, соображений и рассуждений, которые бы должно было высказать резче, подробнее и откровеннее. Но у нас нет многого, чтобы исполнить такую задачу удовлетворительно. Нет у нас пера свободного, нет у нас уменья, силы, таланта, для этого необходимого – есть одно только, что и побудило нас взять в руки слабое и сполна всей нашей мысли не высказывающее перо. Нами руководит чувство и, смеем надеяться, чувство честное: любовь к нашему обществу и его дальнейшим судьбам, да ненависть к дикому невежеству и дальнейшему преуспеянию его, в ту самую минуту, как новейшие, своекорыстным целям преданные, публицисты толкуют о нашем величии. В настоящую минуту мало одного чувства. Покойный Белинский сумел бы блистательно исполнить долг честного гражданина, сумел бы сильно и увлекательно высказать мысли и горечь, у нас на душе накипевшие. Не без причины имя его сорвалось с пера нашего. Сколько раз, с каким неукротимым порывом и могучею силою восставал Белинский против того именно строя жизни, воспитавшись в котором возможно воспевать казацкую удаль, дикость, нагайку и ставить их выше образованности и образования. Опять является на сцену кулачное право, после толков о благодеяниях реформ и преобразований; кулак опять становится предметом песнопений на лирах русских!.. Как быть! Видно, крепостное право пустило глубокие корни и сразу не вырывается из почвы, где оно процветало так долго и так привольно.
Покойный Белинский негодовал, что в отечестве нашем не называют людей людскими именами, а выкликают собачьими кличками. Это тоже была одна из привычек и особенностей крепостного права. Вот оно рушилось наконец, а клички процветают и благоденствуют. Мало того; из передних грязных и невежественных бар они перешли теперь в литературу, не в обличительную, а изящную литературу и, кажется, получают в ней право гражданства. Теперь пришла очередь воспевать и превозносить Ерошек, Лукашек, Назарок, и воспевать и превозносить их при рукоплесканиях почтеннейшей публики. И она, видно, согласна с тем, что безграмотность, дикость и кулачное право ведут людей к счастью и блаженству. Видно, не скоро ещё нам разделаться не только с кличками - это бы что ещё, пустячки - но с строем жизни, при котором клички возможны, при котором не может быть имён, а могут быть только клички, и все последствия, из того вытекающие. Явились поэты этого строя жизни, которые воспевают на чарующих большинство лирах обаятельную прелесть грубой силы и посвящают весь талант свой этим песнопениям. Не зарыл в землю гр. Толстой своего таланта, не совершил он этого преступления, но напротив того совершает великий подвиг. Как древняя весталка в храме богини Весты, боясь, чтобы огонь не угас от наплыва дневного света, гр. Толстой взялся его хранить и поддерживать. Рьяно и храбро он принялся поэтизировать пьянство, разбой, воровство и жажду крови. Поэзия особого рода! Не злоупотребляет гр. Толстой своим талантом, не кланяется модному прогрессу, не служит двум господам. Всецельно, всенародно отдался он одному служению, служению иному, в наш век редкостному, ибо те, ко-торые обрекают себя ему, находят нужным замаскировываться. Граф Толстой не маскируется. Это - подвиг своего рода, и ему нельзя не отдать должной хвалы и чести!
Говорят, что ничто под луною не ново. Это правда, но мы должны прибавить, что человек, взяв чужую мысль, не довольствуется ею: он развивает её, прибавляет к ней своего, ведёт её дальше и дальше. Тут прогресс тоже. Прогресс, но навыворот. Руссо проповедовал возвращение к природе-матери; не отрицая образования и его благодеяний, он хотел только, чтобы люди жили проще, отказались бы от роскоши и довольствовались тем, что природа предлагает им. Стоит только раскрыть «Эмиля» или «Contrat social» - везде одна и та же мысль. Гр. Толстой или его повесть (сознательно или бессознательно, это всё равно) доказывает нам то же самое, но проводит мысль дальше. Идеал его не состоит в одном идиллическом созерцании природы, в жизни простой посреди её и с нею, в удовлетворении первых нужд и потребностей физических. Ему этого мало. В его идеальную жизнь посреди природы входят два новых элемента: пьянство и резня. Поэзия резни и поэзия пьянства сопровождают его героев, кто бы они ни были, Лукашка ли, Ерошка ли, или сам Оленин. Правда, что этот на счёт резни скромнее, ибо жалеет бедного чеченца. Он даже говорит Лукашке: «Чему ж ты радуешься? Кабы твоего брата убили, разве бы ты радовался?» Сказав это, он думает про себя: человек убил другого и счастлив, доволен, как будто сделал самое прекрасное дело. Неужели ничто не говорит ему, что тут нет причины для большой радости?..
Но зато, как раскаивается сам Оленин и, кажется, автор вместе с ним, что образование (проклятое образование, какая это чума!) внушает ему такие глупые мысли. Мы со своей стороны оттого только и считаем Оленина выше Лукашки, что его полуобразование, хотя в этом смысле, отстранило его от Лукашки. Несмотря на то, мы не отрицаем, что известного рода ухарской поэзии больше при резне и пьянстве, чем без них, но и в этом не отдадим безусловно пальмы первенства гр. Толстому. Поэзии пьянства несравненно больше в стихах Д. Давыдова. Вспомним только: «Бурцев ёра забияка, собутыльник дорогой...» Все герои Д. Давыдова, с красносизыми носами, могут поспорить и превзойти героев графа Толстого, не исключая и старика охотника. Это тем досаднее и прискорбнее, что герои Д. Давыдова появились в публику уже давненько. Жаль, что герои графа Толстого не могли, особенно в отношении пьянства, перещеголять их. Публика, во время оно, благосклонно приняла героев Д. Давыдова; она даже знала наизусть многие стихи, где воспевался Бурцев; из нашего «далека» мы слышим, что громадная часть нашей публики, с лёгкой и просвещённой руки «Русского Вестника», приняла с восторгом героев графа Толстого. Слава Богу! Слишком 40 лет отделяют Давыдова от графа Толстого. Давыдов воспевал особый род ухарства и гусаров в 20 годах, а граф Толстой воспевает особый род ухарства и казаков в 63 году! Но между обоими авторами мало разницы, скажем открыто, нет никакой существенной разницы в воззрениях. В большинстве публики, принявшей так благосклонно произведения того и другого автора, видно тоже очень мало существенной перемены в продолжение этих 43 лет! Можно кричать о прогрессе, печатать важные статьи, но когда дойдёт до пробы, до осёлка, то и оказывается сущность дела.
Не говоря уже о Руссо (да простит нам его великая тень, что мы поминаем его всуе, по поводу «Казаков» гр. Толстого), не говоря уже о Денисе Давыдове (вот помирите-ка Руссо с Давыдовым - а гр. Толстой ухитрился призанять у одного его аберрации, а у другого его воззрения, что доказывает силу широкого, неиспорченного цивилизацией таланта), мы хотим сказать несколько слов об одном критике, и об одном писателе.
Жил был в одной земле, плодовитый, не лишённый таланта писатель, которого соотечественники ценили очень высоко и читали очень усердно. Мы забыли его имя - да и что в имени: дело в деле. Этот писатель отчасти сходился в воззрениях, понимании и стремлениях с графом Толстым. В его повестях заключалось подобное тому, что находим в повестях гр. Толстого. Этот писатель, как и граф Толстой, избирал своего героя из среды общества столиц, представлял его несколько испорченным, благодаря цивилизации, заставлял его влюбляться несчастливо или просто разоряться и, вследствие всего этого, вступать в военную службу. Обыкновенно герой попадал на Кавказ. Там, посреди храбрых товарищей (как и герой гр. Толстого), дикой жизни, резни (но не пьянства; цитуемый нами автор не сходится в этом отношении с гр. Толстым), исправлялся он мало-помалу от всех своих пороков. Благодаря строгой дисциплине, привычке повиновения кому следует, совершенно иной жизни в уединении или с храбрыми товарищами, он возвращался домой нравственно преуспевший, соделавшись добродетельным. Он рассуждал, подобно Оленину, «как под крылышком дяди Ерошки ему стала невыразимо гадка та ложь, в которой он жил прежде, что только там, в армии, он чувствует себя вполне человеком». Много написал на эту тему цитуемый нами автор. Его изумлённые читатели недолго оставались изумлёнными. В его читателях проснулось скоро другое чувство. Чувство читателей (большинства или меньшинства, это всё равно) иногда угадывается критиками, особливо, если критик одарён талантом. В этой стране был такой критик. К своему таланту он присоединял неподкупную честность и мужество высказывать свои мысли, хотя бы они шли в разрез с мыслями и увлечениями большинства. Критик возвысил свой сильный голос против модного писателя, голос честного человека и честного гражданина. Этот честный человек, честный гражданин и талантливый критик говорил следующее, и мы приводим выдержки из статьи его, потому что сознаемся, что не обладая его талантом, не умели бы сказать так хорошо того же самого.
«Роман этот был украшением и великой выгодой для повременного издания, в котором появился, и наиболее из всех литературных новостей интересовал и услаждал публику. Ни в одном из своих произведений автор не высказал ещё так ярко своего описательного таланта, своего необычайного дара образности. Ничто не может быть занимательнее этой повести. Но мы не задались целью забавлять наших читателей эстетическими разборами занимательных романов. Мы, конечно, не слепы в отношении художественных достоинств этого произведения и умеем ценить из ряду вон выходящий талант автора. Но окажется совершенно иное, если мы подойдём к роману с другой стороны, со стороны высшей нравственности, и пожелаем оценить писателя с иной точки зрения... Когда предметом разбора есть вопрос первой важности, когда, предметом спора есть вопрос жизни и искусства, критик находится принужденным выйти на более широкое поле, и его не должно обвинять, если, по выражению Паскаля, он не сумеет быть кратким... В этой повести поражает везде отчаянная низменность воззрений; автор не идеализирует людей и не затрудняется выбором героев. Ни один из характеров его лиц не становится милым читателю, не вкрадывается в душу; всякого из них мы встречаем без восторга и покидаем без сожаления; ибо ни одно из его лиц не стремится к высшим сферам духа, не связан с общими судьбами людей-братьев тайною нитью любви и жертвы. Мы не можем испытывать истинного сердечного участия к их счастью, к их страданию, в особенности к их страданию, ибо оно слишком уж индивидуально. Нигде не является это страдание в связи страданий общечеловеческих за идею и за мильоны людей - а за это-то поэзия и раздаёт венцы свои! В искусстве автор не достигает до идеала, а в нравственности до понятия о жертве. И в эстетическом, и в нравственном отношении ему недостаёт высшего полёту, благороднейших стремлений. Изо всей божественной молитвы ему понятны только слова о насущном хлебе, но тоскующего чувства по царстве Божием он совершенно чужд. Когда его герой вступает в среду, ему до тех пор чуждую, понимает ли он, что в отношении к ней на нём лежат обязанности, что он должен заплатить ей свою лепту. Уделяет ли он ей частичку того просвещения, которое его коснулось, благодаря воспитанию и общественному его положению? Пытается ли он поднять среду эту до своего уровня и дать ей вкусить от крупиц духовной пищи, которыми он обладает? Прельщает ли его мысль поднять эту среду до понятий более благородных и прекрасных? Нет! Нисколько... Этот герой не чувствует влечения к такой смешной деятельности и совершенно не знаком с таким нравственным чувством. Самую любовь его к женщине автору удалось представить невыносимою... И что желал доказать автор своею повестью? Какое поучение нам должно извлечь из неё?.. Мы скажем ему только, что он напрасно задавал себе труд славить то, что славит, что напрасно избрал себе задачею обращать обращенных. Если в такие грустные времена искусство имеет какое-нибудь назначение, то именно противоположное. Оно обязано останавливать нас на роковом скате!..».
«Читаем мы и письмо далеко уехавшего героя, из которого явствует, что он описывает в таких светлых красках место, где находится, людей, с которыми живёт, не для того только, чтобы успокоить родных, но и потому, что всё это ему истинно пришлось по душе. Автор уверяет, что герой его здоров и весел, что мундир не теснит его груди, каска не тяготит головы, что конь его играет под ним, и он уносится от земли, чувствуя и сознавая свою свободу, и счастливый, мечтает о прошлых, поэтических веках... Исполняя свои служебные обязанности, герой снискивает благосклонность начальников и хвастается приятным обществом храбрых товарищей!..
Что сказать, когда писатель прославляет и воспевает красоту тех волн, в которых все тонут, и эти волны, полные грязи, выдаёт за целебный источник!»
Впрочем, помимо этого критика, слова которого целиком можно и должно отнести к произведению гр. Толстого, сама действительность говорит громче всяких статей. Как живут казаки? Как живут заезжие храбрецы и большинство лиц на Кавказе? По свидетельству гр. Толстого (мы там не были и полагаемся на нашего автора), большинство играет в штос, в банк и другие душеспасительные, но кошелёк и ум истощающие игры, напивается, где хересом, где портером, заводит интриги с соседними казачками. Других препровождений времени не имеется, даже мысли, по яркому выражению гр. Толстого, лежат в голове по целым суткам, не шевельнувшись, как нетронутые папиросы в футляре. Чего же лучше? А вот покойный генерал Ермолов, человек умный и опытный, определил кратче, рельефнее, что делается с человеком, десять лет безвыездно пробывшем на Кавказе. Он сказал: «Либо с кругу сопьётся, либо женится на распутной женщине». Мы видели, что этот приговор без апелляции и без смягчающих обстоятельств не пугает гр. Толстого, или героя его, Оленина. Но, признаемся, нас он пугает, и мы должны оговориться, что, по нашему мнению, не все служащие на Кавказе подвергаются этой печальной участи. У французов бывает нечто худшее, воспитанное, впрочем, теми же явлениями, тою же кровавою обстановкою. Вот что, например, говорит один француз об Алжире, зуавах и тюркосах: «Часто являются к нам оттуда (из Алжира) люди иного закала, люди железные, люди, всё испытавшие и ко всему приобыкшие. Они приносят к нам оттуда несомненную, неслыханную храбрость, храбрость, ни перед чем не отступающую, закалённый в резне дух, ничем не смущающийся, ни перед чем не отступающий, ни перед какими подвигами солдата-казака не замирающий. Презрение ко всему, кроме силы и успеха, какими бы способами и мерами они добыты ни были, составляют главную черту их характера. Вера их несокрушима и заключается в поклонении и обоготворении силы и успеха. Сила и успех суть, по их убеждению, альфа и омега, начало и конец человеческой премудрости и человеческих стремлений. Кто силён, тот и прав, и это без оговорок, без рассуждений, соображений и уступок чему бы то ни было. Презрение ко всему иному срослось с ними, кипит и волнуется в их жаркой, воспалённой битвами крови; оно сплотило их железные мышцы. Вот в мышцы-то они веруют так, как никакой поклонник Магомета не верил в своего пророка. Всякие вопросы рассекают они мечом как гордиев узел; вера эта поддерживает их в трудные минуты жизни - но что мы сказали? Они незнакомы с трудными минутами. Всё упростилось для них, всё приведено ими к очень несложному знаменателю. Оттого они и совершают, при случае, неслыханные подвиги, другим непонятные и недоступные. Многие рассказывают, будто на поле битвы тюркосы, в припадке храброго запала, валяются с наслаждением в крови убитых врагов и смакуют кровь эту как нектар. Не на поле битвы только, но до ней и после неё, побеждая везде, куда ни покажутся, они упиваются своими успехами с простодушием, невозмутимо взирают на кровь, чья бы ни была она. Перед ними побледнеют всякие витязи Тимуры, ставшие с давних времён пугалами детей и женщин. Да и может ли быть речь о женщинах? Всякий мужчина, человек семейный побледнеет, лишь только отдаст себе отчёт в том, что такое храбрый тюркос. Они неподкупны; они презирают всё на свете, кроме своей, ни перед чем не отступающей отваги. Поклонение силе вытеснило из них всё обыкновенное другим людям, всё, другим людям свойственное. Тюркос - высшее выражение солдатских добродетелей, солдатских воззрений, опора твёрдая и надёжная воинственного отечества. Что устоит перед ним? Где та цивилизация, та среда, те женщины или те семьи, при виде которых он мог бы поколебаться? Он и не колеблется. Сила, сила великая, и при силе - победа! Этому знамени, этому лозунгу верен он, и прав... до сих пор. Сила его всё ещё сила несокрушимая!»...
К сожалению, граф Толстой не мог воспеть нам на своей воинственной лире такое цельное лицо, и ограничился только простыми казаками Лукашкой и Назаркой, которые не доросли ещё до того, чтобы возвести в принцип и веру грубую силу, и только бессознательно пользуются ею и простодушно кичатся. Отсюда крайне узкое поле для их деятельности: она ограничивается убийством одного или многих абреков и раздеванием их донага. Нет сомнения, что если бы Лукашки сознательно поняли, что такое сила, то не ограничились бы добытием шашки и бешмета с убитого чеченца, а с упоением самонаслаждения опустошили бы целый край по мановению руки набольшего урядника или есаула. Граф Толстой не намекает нам на будущность Лукашек и Назарок; но если мы всмотримся в них внимательнее, то можем открыть в них начатки тех великих свойств, при которых образуются настоящие Тамерланы.
Что касается до Оленина, то что бы ни делал он, ему не сложиться в настоящего кавказца, как он о том ни плачется. Что делать? Ему мешает одно.
Ученье - вот чума! Учёность - вот причина! И такая чума, что захватил человек самую малую её крупицу, как Оленин - глядь, и уж не годится в казаки и кавказцы. Жаль, что гр. Толстой не взял этого стиха в эпиграфы своей повести. Быть может, его ввело в заблуждение то, что Фамусов изрёк эту истину тому назад довольно давно, и что она устарела. Напрасно. Истины не стареются, и мы уже сказали, что ничто под луною не ново. Впрочем, беды большой в этом не оказалось, хотя гр. Толстой не поставил эпиграфом своей повести знаменитый стих Фамусова:
Ученье - вот чума! Учёность - вот причина!
Зато красноречиво и на все лады написал вариации на стих этот и как искусный музыкант выполнил их к полному восторгу своего редактора и многих своих соотечественников. Ещё и прежде гр. Толстой пытался варьировать этот самый стих; мы, поискав, найдём варьяции на эту тему в некоторых статьях «Ясной Поляны» и в повести «Альберт»; но всё это было слабо и поверхностно. Только теперь, только в повести: «Казаки», гр. Толстой резко и решительно высказал своё сочувствие Фамусову и блистательно развил его классическое восклицание: ученье - вот чума! учёность - вот причина! Переложив его на презренную прозу, наш автор умел сохранить лиризм и поэзию, стихам свойственные. Публика, холодно принявшая по-весть «Альберт», отнеслась к некоторым статьям «Ясной Поляны» благосклоннее. Многие имели простодушие вообразить себе, что эта благосклонность публики происходила из её уважения к педагогическим трудам гр. Толстого, и что она прощала ему его уклонения ради его полезной деятельности. Признаемся, так думали и мы. Теперь мы совершенно сбиты с толку. Нам пишут, что большинство публики в восторге от «Казаков» - симптом многознаменательный; объяснить его приходится иначе, и есть над чем призадуматься! Как бы то ни было, нет сомнения, что имя гр. Толстого займёт почётное место не только на страницах «Русского Вестника», но и на страницах истории русской литературы, которая должна будет обсудить, кто, как, когда, и в какую именно минуту проводил свои убеждения и просвещал соотечественников, кто и в какую минуту предавался воинственному запалу и воспитанию дикого казачества. В плеяде русских публицистов, романистов, историков и юристов, особенно блистательно действующих в настоящую минуту, прибавилось ещё одно имя, с талантом несомненным, давно всеми признанным. С сих пор гг. Катковы, Павловы, Соловьёвы и Чичерины, не говоря уже о многом множестве их последователей, которым имя легион, могут причесть гр. Толстого к своему полку, завербовать его в свой лагерь. Правда, что они не совсем сходятся в учении, но все, с трогательным единодушием, идут к единой цели. Приветствуем гр. Толстого, ставшего в ряды этих соотечественников наших, и предрекаем ему тот же успех и те же лавры (если он только не своротит с этой дороги), какими увенчали себя сии почтенные мужи, честь и слава нашего времени.
Ранним зимним утром от крыльца московской гостиницы Шевалье, простясь с друзьями после долгого ужина, Дмитрий Андреевич Оленин отъезжает на ямской тройке в кавказский пехотный полк, куда зачислен юнкером.
С молодых лет оставшись без родителей, Оленин к двадцати четырём годам промотал половину состояния, нигде не кончил курса и нигде не служил. Он постоянно поддаётся увлечениям молодой жизни, но ровно настолько, чтобы не быть связанным; инстинктивно бежит всякого чувства и дела, которые требуют серьёзных усилий. Не зная с уверенностью, на что же направить силу молодости, которую ясно чувствует в себе, Оленин надеется с отъездом на Кавказ переменить жизнь, чтобы не стало в ней больше ошибок и раскаяния.
За долгое время дороги Оленин то предаётся воспоминаниям о московской жизни, то рисует в воображении манящие картины будущего. Горы, которые открываются перед ним в конце пути, удивляют и радуют Оленина бесконечностью величественной красоты. Все московские воспоминания исчезают, и какой-то торжественный голос будто говорит ему: «Теперь началось».
Станица Новомлинская стоит в трёх верстах от Терека, разделяющего казаков и горцев. Казаки несут службу в походах и на кордонах, «сидят» в дозорах на берегу Терека, охотятся и ловят рыбу. Женщины ведут домашнее хозяйство. Эту устоявшуюся жизнь нарушает приход на постой двух рот кавказского пехотного полка, в котором уже три месяца служит Оленин. Ему отведена квартира в доме хорунжего и школьного учителя, приезжающего домой по праздникам. Хозяйство ведут жена - бабушка Улита и дочь Марьянка, которую собираются выдать за Лукашку, самого удалого из молодых казаков. Как раз перед самым приходом русских солдат в станицу в ночном дозоре на берегу Терека Лукашка отличается - убивает из ружья плывущего к русскому берегу чеченца. Когда казаки разглядывают убитого абрека, незримый тихий ангел пролетает над ними и покидает это место, а старик Ерошка говорит, как будто с сожалением: «Джигита убил». Оленин принят хозяевами холодно, как и заведено у казаков принимать армейских. Но постепенно хозяева становятся терпимее к Оленину. Этому способствует его открытость, щедрость, сразу установившееся приятельство со старым казаком Ерошкой, которого в станице уважают все. Оленин наблюдает жизнь казаков, она восхищает его естественной простотой и слитностью с природой. В порыве добрых чувств он дарит Лукашке одну из своих лошадей, и тот принимает подарок, не в силах понять такого бескорыстия, хотя Оленин искренен в своём поступке. Он всегда угощает вином дядю Ерошку, сразу соглашается с требованием хорунжего повысить плату за квартиру, хотя оговорена была меньшая, дарит Лукашке коня - все эти внешние проявление искренних чувств Оленина казаки и называют простотой.
Ерошка много рассказывает о казацкой жизни, и немудрёная философия, заключённая в этих рассказах, восхищает Оленина. Они вместе охотятся, Оленин любуется дикой природой, слушает наставления и размышления Ерошки и чувствует, что постепенно все больше и больше хочет слиться с окружающей жизнью. Весь день он ходит по лесу, возвращается голодный и усталый, ужинает, выпивает с Ерошкой, видит с крыльца горы на закате, слушает истории про охоту, про абреков, про беззаботное, удалое житье. Оленин переполнен чувством беспричинной любви и обретает наконец ощущение счастья. «Все Бог сделал на радость человеку. Ни в чем греха нет», - говорит дядя Ерошка. И словно отвечает ему Оленин в своих мыслях: «Всем надо жить, надо быть счастливым... В человека вложена потребность счастья». Однажды на охоте Оленин представляет, что он «такой же комар, или такой же фазан или олень, как те, которые живут теперь вокруг него». Но как бы тонко ни чувствовал Оленин. природу, как бы ни понимал окружающую жизнь, - она не принимает его, и он с горечью осознает это.
Оленин участвует в одной экспедиции и представлен в офицеры. Он сторонится избитой колеи армейской жизни, состоящей в большей части из картёжной игры и кутежей в крепостях, а в станицах - в ухаживании за казачками. Каждое утро, налюбовавшись на горы, на Марьянку, Оленин уходит на охоту. Вечером возвращается усталым, голодным, но совершенно счастливым. Непременно приходит к нему Ерошка, они долго беседуют и расходятся спать.
Оленин каждый день видит Марьянку и любуется ею так же, как красотой гор, неба, даже не помышляя о других отношениях. Но чем больше он наблюдает её, тем сильнее, незаметно для себя, влюбляется.
Оленину навязывает свою дружбу князь Белецкий, знакомый ещё по московскому свету. В отличие от Оленина Белецкий ведёт в станице обычную жизнь богатого кавказского офицера. Он и уговаривает Оленина прийти на вечеринку, где должна быть Марьянка. Подчиняясь своеобразным шутливым правилам таких вечеринок, Оленин и Марьянка остаются наедине, и он целует её. После этого «стена, разделявшая их прежде, была разрушена». Оленин все больше времени проводит в комнате у хозяев, ищет любой повод, чтобы увидеть Марьянку. Все больше размышляя о своей жизни и поддаваясь нахлынувшему на него чувству, Оленин готов уже жениться на Марьянке.
В это же время продолжаются приготовления к свадьбе Лукашки и Марьянки. В таком странном состоянии, когда внешне все идёт к этой свадьбе, а у Оленина крепнет чувство и яснеет решимость, он делает девушке предложение. Марьянка соглашается, при условии согласия родителей. Наутро Оленин собирается идти к хозяевам просить руки их дочери. Он видит на улице казаков, среди них Лукашку, которые едут ловить перебравшихся на эту сторону Терека абреков. Повинуясь долгу, Оленин едет с ними.
Окружённые казаками чеченцы знают, что им не уйти, и готовятся к последнему бою. Во время схватки брат того чеченца, которого ранее убил Лукашка, стреляет Лукашке из пистолета в живот. Лукашку привозят в станицу, Оленин узнает, что тот при смерти.
Когда Оленин пытается заговорить с Марьянкой, та отвергает его с презрением и злобой, и он вдруг ясно понимает, что никогда не сможет быть любим ею. Оленин решается уехать в крепость, в полк. В отличие от тех мыслей, которые были у него в Москве, сейчас он уже не раскаивается и не обещает себе лучших перемен. Перед отъездом из Новомлинской он молчит, и в этом молчании чувствуется скрытое, неизвестное ранее понимание пропасти между ним и окружающей жизнью. Интуитивно чувствует внутреннюю сущность Оленина провожающий его Ерошка. «Ведь я тебя люблю, я тебя как жалею! Такой ты горький, все один, все один. Нелюбимый ты какой-то!» - говорит он на прощание. Отъехав, Оленин оглядывается и видит, как старик и Марьяна разговаривают о своих делах и уже не смотрят на него.
Пересказал
В основе повести — конфликт меж-ду людьми труда, для которых ха-рактерны чувства свободы, незави-симости и собственного достоинства, и дворянином Олениным, желающим сблизиться с жизнью каза-ков, но терпящим неудачу в этих своих попытках. Оленин отправляется на Кавказ с наивными на-деждами на нравственное возрождение. Он весь во власти традиционных романтических представлений о Кавказе: он мечтает о подвигах, славе, необык-новенной любви... Для него «все мечты о будущем соединялись с образами Аммалат-Беков (герой повес-ти А. Бестужева-Марлинского), черкешенок, гор, обрывов, страшных потоков и опасностей». Он даже оказывается способным почувствовать красоту кав-казской природы, открывает для себя новый мир, совершенно непохожий на тот, в котором он жил ранее. В нем возникает желание стать простым казаком, подчинить себя законам, по которым люди «живут, как живет природа». Любовь к краса-вице-казачке Марьяне, дружба со старым охотником дядей Брошкой помогают Оленину признать прево-сходство жизни простых казаков.
Для Толстого очень важен был дядя Ерошка, изображенный в повести как олицетворение народной мудрости, добра и справедливости. Знакомство с ним раскрыло перед Олениным новый мир человеческих отношений — отсутствие эгоистической замкнутости, органичную близость к природе, общительность и искреннее дружелюбие. Однако существует некий психологический барьер, преодолеть который Оле-нин не в состоянии, и который не дает ему возмо-жности приобщиться к естественной и нормальной жизни казачьего мира с его целостностью и твер-дыми нравственными устоями.
Природа и человек, живущий по законам приро-ды, представляют, по мнению Толстого, высшую ценность. Они способны очистить, облагородить и нравственно исцелить человека, выросшего в празд-ной городской атмосфере, в «цивилизованном» об-ществе. Но типично романтический сюжет (герой, ищущий спасения от духовного разлада в необычной для него патриархальной среде) разрабатывается у Толстого по законам реалистического искусства. Ни-когда писатель не переходит границ, за которыми начинается нарушение жизненной правды. Никакого искупления не происходит и произойти не может. Оленин для Марьяны и дяди Ерошки навсегда ос-тается человеком чужой, враждебной культуры; нет ничего, что могло бы помочь их духовному сбли-жению. Он нуждается в казаках, но для них-то Оленин чужак. Материал с сайта
Вместе с тем реалист Толстой далек от идеали-зации казачьей жизни. Он видит, как появляются в станице новые нравы и обычаи, а старые пат-риархальные традиции исчезают. Характерно, что дядя Брошка оказывается в определенной степени уже чужим и непонятным для молодых казаков. «Нелюбимые мы с тобой, сироты!» — плача, говорит он Оленину.
Десятилетний творческий опыт, создание автобио-графической трилогии, военных рассказов, повестей из крестьянской жизни, выработанные уже принци-пы психологического анализа, новый подход к изо-бражению батальных сцен — все это во многом помогло Толстому при создании величественной эпо-пеи «Война и мир», которая знаменует собою качест-венно новый этап в идейном и художественном развитии писателя.








 Как и когда лучше делать тест на беременность
Как и когда лучше делать тест на беременность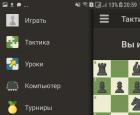 Шахматы Free для android Программа для андроид шахматы
Шахматы Free для android Программа для андроид шахматы Медикаментозный аборт: все про таблетки для прерывания беременности
Медикаментозный аборт: все про таблетки для прерывания беременности Шуточные медали и номинации на юбилей мужчины Вручение медали 60 лет
Шуточные медали и номинации на юбилей мужчины Вручение медали 60 лет